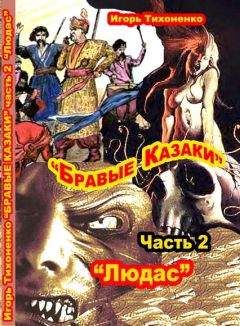— Скажи, Людас, ты после двенадцати ничего не пил?
— Нет. А что?
— Ну, слава богу, — облегченно вздохнул Мяшкенас, — я, видишь ли, вовремя не спохватился и только недавно выпил стакан сельтерской. А завтра, понимаешь, у меня «грегорианка»[162]. Еще два дня осталось. Выручи, братец, отслужи завтра за меня очередную обедню.
Точно когти вонзились в грудь Васариса. Просьба была такой неожиданной, что он растерялся. Ведь он и вспомнить не мог, когда в последний раз служил обедню.
— А капеллан не выручит? — спросил Васарис с надеждой.
— Увы, он тоже пил после двенадцати. А почему ты не можешь? Ничем, кажется, не занят, проспишь часов до девяти или десяти, сходишь в собор, а через полчаса вернешься домой. Неужели это так трудно?
Тут Васарис решился:
— Дело вовсе не в трудности. Но поверь мне, что не могу, попроси кого-нибудь другого.
— Гм… Не думал я, что у тебя может быть такой серьезный casus conscientiae[163], — не унимался профессор. — Но если и так, можно было бы исповедаться по этому случаю. Ведь если не завтра, так послезавтра все равно придется служить обедню. А может быть, тебе не хочется надевать сутану? Так отправляйся как есть, в штатском. Депутаты сейма так и делают.
Но Васарис упрямо стоял на своем:
— Не могу. Думай, что хочешь, проси, чего хочешь, только не этого.
Он видел, что профессор обиделся и растерялся.
— Не можешь, так не можешь. Видимо, Западная Европа сделала тебя таким принципиальным… — и он отошел к другим гостям.
Васарис так и остался с нахмуренным лицом и упавшей на лоб прядью волос. Выждав момент, он попрощался с хозяином. Профессор холодно подал ему руку.
На лестнице его догнал Индрулис.
— И я сбежал. Скучно. Ты где остановился?
— В «Руте».
— Тогда нам по пути. Почему же ты в гостинице?
— Я ведь пока ненадолго, через три дня еду к родным.
— А потом?
— Потом вернусь в Каунас. Меня собираются назначить директором новой гимназии, но еще не пришло утверждение. Кстати, не слыхал — не сдается где-нибудь комната?
— Найти комнату нелегко. Знаешь что, пока можешь пожить у меня. Одна комната свободна. А со временем подыщешь. По возвращении из дому приезжай прямо ко мне.
— Большое спасибо. Вот и прекрасно. А ты живешь один? Не женился еще?
— По правде говоря, собираюсь.
— Самое время. Влюбился?
— Не без того… Что поделаешь… Этой болезнью каждый должен переболеть.
— Кто она? Красавица, богачка?
— Американка[164], братец!.. Познакомлю — сам увидишь. Богатая, у отца трехэтажный каменный дом, а она единственная дочь. Понимаешь, что это значит?
— Ну конечно, как не понять, — двусмысленным тоном протянул Васарис. Ему не понравилось, что Индрулис, по-видимому, более очарован трехэтажным домом, чем самой невестой.
— А собой она какова? — спросил он.
— Ничего, красивая, — довольно спокойно похвалил невесту Индрулис. — Ноги маленькие, стройные, икры точеные. Вот только бюст маловат. Знаешь, мне нравятся женщины полногрудые, хотя они теперь и не в моде. Ну, прости, брат, не сердись! — спохватился он, — я и позабыл, что ты ксендз.
Васарис даже пожалел американку: так цинично разбирал жених ее стати. Однако он продолжал задавать вопросы:
— А что она, интеллигентная, развитая?
— Даже слишком! — воскликнул адвокат. — С высшим образованием, да еще и музыкантша. Откровенно говоря, меня это мало трогает. Я не музыкален. А ученые женщины в семейной жизни часто либо слишком холодны, либо капризны.
— Ну, я вижу, ты не особенно очарован своей невестой, — пошутил Васарис.
— Почему? Напротив, она мне очень нравится. Я ее люблю, но видишь, брат, я уж не юноша и трезво смотрю на такие вещи. Кроме того, знаешь, взрослый человек руководствуется не только чувством, но и расчетом, а такая партия не каждый день подворачивается.
Теперь Васарис окончательно понял, какова любовь Индрулиса и ради чего он хочет жениться.
— А знаешь, я бы хотел, чтобы кто-нибудь отбил у тебя американку, если она того стоит, — поддразнил он адвоката, — а ты подыщешь себе не такую ученую и музыкальную невесту с четырехэтажным домом.
— Ну-ну, не издевайся, — запротестовал Индрулис. — Когда узнаешь мою американку, поймешь, что ее любовь дороже лишнего этажа. Замечательная женщина.
Оба помолчали.
— Ну, а ты как? — спросил адвокат, — пишешь что-нибудь новое?
— Да, начал большое произведение. Драму.
— Историческую или современную?
— Фантазия на тему далекого прошлого. Затрагиваю в ней острые вопросы.
— Почитай как-нибудь. Хоть я и юрист, а литературу люблю.
— Там видно будет…
На Укмергском шоссе приятели распрощались.
Вернувшись в гостиницу и укладываясь в постель, Васарис стал думать, что же собой представляет невеста Индрулиса, если она не догадывается об истинных причинах «любви» адвоката. А еще образованная и музыкантша! Потом он задумался о своей драме и погрузился в полусон, полуявь.
III
Утром он проснулся рано, и ему сразу пришла на память вчерашняя просьба Мяшкенаса отслужить обедню. На душе Васариса стало легко и радостно при мысли, что он нашел в себе силы отказаться, и ему не придется сегодня выполнять эту неприятную обязанность. Но была ли она ему неприятна сама по себе? Нет, просто он не хотел публично признать себя ксендзом. И не только публично, — ему и самому было как-то стыдно, противно и жутко опять представить себя священником.
Да еще исполняющим самую священную обязанность. И так неожиданно, без подготовки!
Лежа в постели и все еще испытывая приятное удовлетворение, он попытался вспомнить, где и когда в последний раз служил обедню. Два последних года он провел в Париже. Нет, в Париже он не служил ни разу. До этого он полгода прожил в Риме. Да, там он еще служил обедню, хотя и не ежедневно. Пожалуй, в Риме это и было в последний раз.
Потом его мысли перенеслись к первым годам эмиграции, в Россию. Там он пробыл около трех лет, преимущественно в Петрограде. Тогда еще он ежедневно служил обедню. Васарис учился в духовной академии, где строгости были почти такие же, как и в семинарии. Но и дисциплина не помогала, его ксендзовский пыл стал угасать, тем более, что большинство воспитанников, которые были уже ксендзами, не боялись изредка нарушать эту дисциплину.
Иногда, условившись с каким-нибудь товарищем, Васарис без спроса удирал в театр. Порой, когда их водили гулять по улицам столицы или в какой-либо музей, или посмотреть выставку, — он с товарищем умудрялся сбежать и возвращался в академию только в полночь. Они слонялись по Невскому проспекту, глазели на витрины, вертелись в больших магазинах, а вечером шли к кому-нибудь из земляков, где бывали и другие гости. Кое у кого из воспитанников академии было светское платье. Оно избавляло их от многих неприятностей, потому что одетых в сутану извозчики и хулиганы часто обзывали иезуитами и провожали трехэтажной бранью.
За время пребывания в академии противоречия, терзавшие Васариса, обострились: поэт и священник не могли ужиться в его душе. В семинарии, а позднее в приходе, это выражалось в тайной душевной борьбе, и редко когда его поступки шли в разрез с установленными правилами. Здесь же, в русской столице, он часто нарушал их. Все, что интересовало его как поэта: театры, публичные библиотеки, знакомства с мирянами, все это для него, как для ксендза, было запретным плодом, вкушая который, он постепенно утрачивал характерные черты, присущие духовенству. Невольно он стал уклоняться от кое-каких обязанностей: добыл разрешение епископа заменить чтение длинного сложного бревиария более удобным чтением молитв по четкам, которые можно было отбарабанивать в трамвае и на ходу. Хотя для медитации воспитанники академии собирались в часовне, но каждый читал по своей книге. А книги эти не всегда соответствовали святой цели. Обедню они служили на скорую руку, потому что ксендзов было слишком много, алтарей и времени не хватало, и все торопились, соревнуясь между собой.
Трех лет, проведенных в академии, оказалось совершенно достаточно, чтобы не слишком пылкое рвение Васариса охладила рутина, а выполнение обрядов превратилось в привычку.
После академии ему представился случай уехать за границу. В ту пору он был полон смелых, мятежных замыслов. Ему впервые почудилась возможность освобождения. От чего? Он и сам не знал. То ли от надоевшей рутины, то ли от внутреннего конфликта, а может быть, от тоски, которая охватывала его в минуты раздумья.
Васарис уехал в далекие, незнакомые края искать знаний, искать освобождения. Скандинавия, Англия, Франция, Швейцария, Италия в течение десяти лет заменяли ему родину. Там он учился и работал, сперва в комитете помощи военнопленным, а позже в литовских посольствах и представительствах. Он сжился с чужими людьми, привык к светскому платью, но все еще чувствовал себя ксендзом, и желанное освобождение не приходило. Повторяя привычные молитвы по четкам, он часто размышлял о мирских делах или, сбиваясь и путаясь, читал «Радуйся, Мария», сам не сознавая, что читает. В месяц раз, а то и реже он исповедывался какому-нибудь капуцину или францисканцу, перечислял трафаретные грехи, выслушивал трафаретные замечания и опять возвращался к повседневным делам.