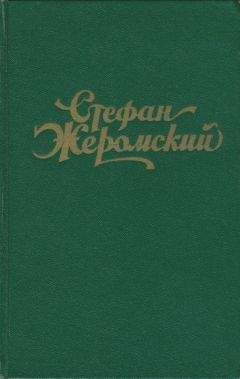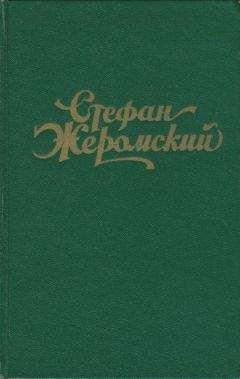Убедившись, что австрийцы ушли далеко, Гюден воспрянул духом. Он выполнил все, что задумал. Взял Гримзель, прогнал неприятеля из Валлиса, занял Фурка и Сен — Г отард. Ему хотелось сказать об этом Ле — Г ра, но он почувствовал себя усталым… Он предпочел растянуться на траве и смотреть на тучи, которые неслись так низко, что едва касались травы, и, несмотря на чудную погоду, сеяли капли дождя, тяжелые, как дробинки, и какие‑то вялые. Ноги у генерала распухли, грязные пальцы торчали из рваных сапог, язык был такой сухой, что, казалось, им, как лучинкой, можно было бы разжечь огонь в печи. Следуя примеру командующего, солдаты тоже лежали навзничь, предаваясь безграничной лени. Когда все три роты вернулись с разведки и отдохнули, вся колонна повернула назад к Хоспенталю. Солдаты и теперь шли бодро, но уже, как говорится, клевали носами. Им казалось, что ноги у них налиты свинцом.
Спускаясь с гребней, довольно, впрочем, пологих, по которым они, преследуя недавно врага, поднимались, не помня себя от ярости, солдаты теперь по — настоящему боялись, как бы им снова не приказали карабкаться вверх. Любой пехотинец скорее согласился бы, чтобы его высекли или даже легко ранили штыком, только бы не подниматься больше в гору. Под вечер все добрались до Хоспеиталя. Товарищи, оставшиеся там в качестве гарнизона, стали рассказывать о бегстве двух батальонов австрийцев, которые вышли из расселины за Андерматтом. Увидев в Хоспентале темные мундиры и французские шляпы, они сразу же бросились в горы влево от Андерматта и исчезли в долине Рейна, уходя по направлению к Хур. Гюден был вне себя от радости. Став посреди колонны, он пригласил солдат на ужин в лагерь у Чертова моста. С громкими кликами войска по красивой и тихой луговой долине двинулись к Андерматту.
Уже смеркалось, когда вся колонна беспорядочной толпой подошла к расселине, в которую тихий Рейс низвергается вдруг бурным потоком. Когда они, усталые, тащились к месту отдыха, из‑за скал выскочила одна, другая, третья рота и в боевом порядке, с карабинами наперевес, ударила в штыки. В глухой вечерней тишине, нарушаемой лишь звуками шагов и далеким шумом воды, вдруг раздался громовой крик:
— Vive la France![37]
Колонна ответила тем же криком. Тогда с той стороны вышел вперед рослый и мрачный генерал Лекурб и, быстро подойдя к молодому герою, перед обеими колоннами заключил его в объятия. Потом, подняв шпагу, он крикнул:
— Да здравствует генерал Гюден!
— Да здравствует генерал Гюден! — подхватили обе колонны.
Ночь спустилась на ущелья. Все пространство от Андерматта до Гешенена было занято лагерем. Пылали костры, жарились туши коров и волов, пригнанных сюда из самого Вассена. Пленных, взятых Гюденом на Гримзеле, поместили в тесном проходе за Урнерлохом, возле самого Чертова моста. Они сидели там, как крысы в западне. По соседству расположилась лагерем рота Ле — Гра.
Пулют устроил раненого Фелека у своего костра, сделал ему постель из мха и травы и готовил в каком‑то особенном горшочке не менее особенный, будто бы чудодейственный бульон. Раненый дремал. Время от времени он открывал глаза и с глубоким изумлением глядел на отблески огня, перебегавшие по громадам скал и утесов, зубцы которых сдвинулись так плотно, что теснина у реки казалась глухой пещерой. Порою Фелек начинал прислушиваться к яростному шуму воды, которая, дробясь и пенясь, низвергалась по скользким ступеням, и тогда его охватывал ужас. Вскоре он услышал, что Матус с кем‑то разговаривает. Он хотел узнать, кто это говорит, но вдруг все стало ему безразлично…
Когда он снова поднял тяжелые веки, то увидел у огня Матуса и трех пленных. Старый солдат говорил с ними шепотом. Лицо его горело. Фелек не мог сообразить, что произошло, почему он понимает, о чем они говорят и почему его так одолевает сонная одурь… Он хотел шевельнуться, подвинуться к костру, поговорить с ними и выплакать слезы, которые как камень давили ему грудь. Так было ему горько, так тоскливо… Долго он снова ничего не видел, витая в мире странных видений и грез, долго пытался поднять левую руку, чтобы позвать Пулюта и что‑то ему сказать. Очнувшись, Фелек увидел его у костра, он сидел, попыхивая трубкой, среди пленных австрийцев, смотревших на него с обожанием. Надвинув шляпу на лоб и глядя на огонь, Матус громко рассказывал:
— Направо, — говорил он, — были там кустики можжевельника, налево — поле, недавно взборонованное. Стоим это мы на пашне, а пули свистят — не приведи бог! От дыма, скажу я вам, и рожи и ремни у всех почернели. Грохот стоит, наши знай носом в землю тычутся, а тут в дыму еще какие‑то полки летят… Глянули это мы в сторону, видим, сам пехтурой прется… Начальник[38]. Без шляпы, лицо все в грязи… Встал он в нашу шеренгу, показал палашом, прокричал что‑то… Э — эх!.. Как двинулись мы, черт возьми, так верите, ребята, земля под ногами пошла ходуном…
Фелеку хотелось дослушать этот рассказ, но им снова овладела слабость, тяжелый сон сомкнул глаза, и мрак поглотил его.
II
Старый пан Кшиштоф Опадский медленно шел по дороге от Млынских Смугов к Зимной. Старик был в шубе на лисьем меху и в высоких козловых сапогах; ему было тепло, даже немного душно. Всю зиму он провел в жарко натопленных комнатах, просидел в кресле около печки, и, когда в первый раз после зимней спячки вышел на улицу, свежий воздух опьянил его и одурманил не хуже стопки доброго токая.
Весна уже наступила. С неделю стояла оттепель, и сейчас кое — где сверху земля начинала уже подсыхать. На тропинках она пружинила под ногами, словно натянутый ремень. На дорогах еще стояла жидкая грязь, в бороздах блестели, как стекло, длинные полосы воды, а на пашне нога уходила в мокрый грунт по колено. Утро выдалось, словно счастливая улыбка на лице больного. Редкий туман чуть приметной синеватой дымкой заволакивал далекий горизонт, ближе чернела вокруг обнаженная и мертвая земля. Не было еще ни единой зеленой травинки. Выгоны и межи безжизненными полосами лежали между полями. Безгранично тянулась унылая равнина, теряясь за стелющейся в отдалении мглой. На невысоком холме виднелись несколько сухих тополей, черная крыша и длинная, белая, подпертая красными столбами стена овчарни в Бродском фольварке. Немного поодаль из‑за песчаного пригорка выглядывали халупы деревушки Буды Бродские. В тумане среди ровных и безмолвных полей смутно рисовались тополи и постройки Костжевна. Дорога блестела от воды в колеях, в конце ее грелся на солнце городок Зимная, а рядом с ним поместье Зимная с многочисленными постройками и большим старым домом, укрытым в чаще деревьев парка и фруктового сада.
Пан Опадский шел нога за ногу, останавливался и, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрел вдаль. Он знал тут каждый клочок земли, каждую кротовину, каждый изгиб ручейка. Подойдя к березовой рощице, тянувшейся справа от дороги вдоль пастбищ, он снова остановился и, покачивая головой, пробормотал:
— Смотри, пожалуйста, как все поднялось! Ведь голо здесь было, как колено, еще так недавно совсем было голо. Ах, да! Когда же это было? Помню, ехали мы с Sophie в свадебное путешествие… Экипаж был открытый, день теплый, такой теплый, такой ясный…
Он подошел к стройным березкам с белой, гладкой, кое — где потрескавшейся корой; нежная береста, разрисованная черными полосками, свивалась, как листки веленевой бумаги; глядя на тонкие черные ветви деревьев, буйно устремлявшиеся вверх, он повздыхал о чем‑то давно минувшем и, должно быть, невозвратном. В этом березничке почва была потверже, старик вошел поэтому в заросли и шаг за шагом подвигался вперед. На земле лежали целые кучи прошлогодних почерневших листьев, до того уже истлевших, что от них остались одни черешки с жилками. Влага стекала по ним, как по жиру, образуя маленькие ручейки, сбегавшие во рвы. Белую кору берез и черный лоснящийся покров земли теплое солнышко разузорило всевозможными красками, живыми пятнами света и тени. Казалось, в глубине леска среди великого безмолвия бродит ощупью кто‑то невидимый, то появляется, то исчезает, то быстро убегает, то снова подкрадывается, ступая на цыпочках и выглядывая из‑за стволов. Пан Опадский пробирался между деревцами, продолжая что‑то шептать про себя, будто ведя с кем‑то оживленный разговор:
— И все прошло… Смотри ты!.. И такая надвинулась глубокая старость…
Он снова остановился и, задрав голову вверх, оглядывал кудрявые макушки берез.
— А они себе растут как ни в чем не бывало… И жив ты или нет, старикашка, трухлявый ты пень, им все равно… Вот оно какое дело!
Большие, даже в глубокой старости прекрасные глаза пана Опадского, когда‑то голубые, но теперь поблекшие, на мгновение покраснели…
Он махнул рукой, красивым непроизвольным движением погладил седой ус и вышел из леса на дорожку. Остановившись, он окинул взором окрестность; внимание его привлекли два блестящих пятна. Издали, со стороны Костжевна шли двое в военных мундирах.