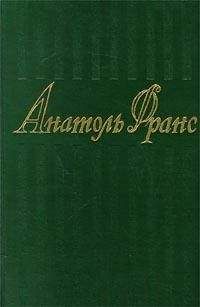Дело в том, господин Николя Сериз, что вы здесь следуете стезей рассудка и учености, которая представляет собой не что иное, как тесный и коротенький грязный тупик, где люди, ища выхода, бесславно расшибают себе носы. Вы рассуждали на манер какого-нибудь глубокомысленного аптекаря, который возомнил, что знает природу, ибо различает кое-какие из ее внешних признаков. И вы решили, что если при естественном зарождении жизни получаются уроды, то это не входит в божественный промысел творца, создающего людей, дабы они прославляли его: «Pulcher hymnus Dei homo immortalis»[21]. Великодушно с вашей стороны, что вы не причислили сюда и младенцев, умерших при рождении, а также помешанных и кретинов, — словом, всех тех, кто, на ваш взгляд, не может называться, по выражению Лактанция, высшей славой божьей — Pulcher hymnus Dei. Но что вы об этом знаете и что знаем мы, господин Николя Сериз? Вы, верно, принимаете меня за одного из ваших амстердамских или гаагских читателей, пытаясь внушить мне, будто непознаваемая природа есть нечто несовместимое с нашей пресвятой христианской верой. Для наших глаз, сударь, природа — это всего лишь беспорядочное чередование образов, в смысл коих нам невозможно проникнуть, и я допускаю, что ежели судить по ней, следуя за каждым ее шагом, то невозможно различить в новорожденном младенце ни христианина, ни человека, ни даже особь, и что плоть представляет собою поистине непостижимый иероглиф. Но это ровно ничего не обозначает, ибо мы здесь видим только обратную сторону узора. Не будем же задерживаться на этом, а заключим просто, что с этой стороны мы ничего познать не можем. Обратимся всем естеством своим к тому, что постижимо, а сие есть душа человеческая в единении с богом.
Смешно рассуждаете вы, господин Николя Сериз, о природе и о рождении. Вы напоминаете мне мещанина, который решил бы, что проник в тайны короля, лишь потому, что видел картины, развешанные по стенам в зале Совета. И подобно тому, как государственные тайны содержатся в беседах монарха с министрами, так и жребий человеческий кроется в мысли, которая возникает одновременно у творения и у творца. А все остальное — просто забава и пустяки, годные для развлечения ротозеев, каких немало толчется в академиях. Не говорите мне о природе, если только это не то, что можно увидеть у «Малютки Бахуса» воплощенным в Катрине-кружевнице, округлой и статной.
А вы, дорогой хозяин, — прибавил г-н аббат Куаньяр, — дайте-ка мне выпить, потому что у меня пересохло в горле по милости господина Николя Сериза, который полагает, будто природа безбожница. Ну и пусть, черт побери, такова она есть и в некотором роде даже и должна быть такой, господин Николя Сериз, а если она все же иногда глаголет о славе божией, так это бессознательно, ибо не существует никакого сознания вне разума человеческого, который один берет свое начало в конечном и бесконечном. Ну, выпьем!
Батюшка наполнил до краев стаканы моего доброго учителя г-на аббата Куаньяра и г-на Николя Сериза и заставил их чокнуться, что они и сделали от чистого сердца, ибо они были хорошие люди.
Господин Шиппен, который занимался в Гринвиче слесарным ремеслом, имел обыкновение всякий раз, приезжая в Париж, ежедневно обедать в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» в обществе ее хозяина и г-на аббата Жерома Куаньяра, моего доброго учителя. На сей раз он, спросив по своему обыкновению за десертом бутылку вина и закурив трубку, вынул из кармана «Лондонскую газету» и, попыхивая и прихлебывая, начал спокойно читать. Потом, спрятав газету, он положил трубку на край стола.
— Господа, — произнес он, — министерство пало.
— Ну и что же, — сказал мой добрый учитель, — какое это имеет значение!
— Извините, — возразил г-н Шиппен, — это имеет важное значение, потому что в прежнем министерстве были тори, а в новом будут виги, а кроме того, все, что происходит в Англии, — значительно.
— Сударь! — отвечал мой добрый учитель, — мы видели во Франции и не такие перемены. Мы видели, как четыре должности государственных секретарей были замещены шестью или семью советами по десяти членов в каждом, а господа государственные секретари, будучи разрезанными на десять кусков, затем были восстановлены в их прежней форме. И при каждой из этих перемен одни клялись, что все погибло, а другие, напротив, — что все спасено. И всякий раз сочиняли песенки. Скажу по совести, меня мало интересует, что происходит в кабинете правителя, поскольку я вижу, что уклад жизни от этого не меняется, и после реформ, как и до них, люди все так же себялюбивы, скупы, трусливы и злы, то неразумны, то свирепы и что число новорожденных, молодоженов, рогоносцев и повешенных не меняется, а сие и есть признак высокого общественного строя. И это прочный строй, сударь, и ничто его не сокрушит, ибо он держится на нищете и глупости человеческой, а в такого рода опорах никогда не будет недостатка. Благодаря им все здание приобретает такую прочность, что о него разбиваются усилия самых негодных властителей и всей этой невежественной толпы чиновников, кои им споспешествуют.
Батюшка, который слушал эту речь, стоя со шпиговальной иглой в руке, позволил себе сделать поправку и заметил с почтительной твердостью, что бывают и хорошие министры и что ему особенно памятен один из них, недавно почивший; он издал очень мудрый указ, ограждавший харчевников от ненасытной алчности мясников и пирожников.
— Возможно, господин Турнеброш, — отвечал мой добрый учитель, — но об этом деле следует спросить и пирожников. Надобно всегда помнить о том, что государства держатся не премудростью нескольких министров, а потребностями многих миллионов людей, которые для того, чтобы жить, занимаются кто чем может, — любым низким и неблагородным промыслом, как-то: ремеслами, торговлей, земледелием, войной, мореплаванием. Эти личные нужды и создают то, что принято называть величием народов, а монарх и его министры не имеют к сему ни малейшего касательства.
— Вы ошибаетесь, сударь, — возразил англичанин, — министры имеют к этому касательство, они издают законы, из которых любой может либо обогатить, либо разорить народ.
— О! тут все зависит от того, как оно обернется, — сказал аббат. — Дела государственные столь обширны, что ум одного человека не в состоянии их охватить, а посему приходится прощать министрам, что они действуют вслепую, и не поминать лихом ни зло, ни добро, содеянное ими, ибо надобно считаться с тем, что они подобны детям, играющим в жмурки. К тому же это зло и добро, если рассудить без предубеждения, окажется совсем незначительным, и я сомневаюсь, сударь, чтобы какой-нибудь указ или закон мог возыметь такое действие, как вы говорите. Взять хотя бы девиц веселого поведения, ведь о них за один год издано столько всяких постановлений, сколько по всем другим корпорациям в королевстве не издадут и за сто лет; однако это не мешает им заниматься своим ремеслом, и с таким рвением, какое заложено в них самой природой. Они смеются над теми высоконравственными пакостями, которые некий советник, по имени Никодем, замышляет на их счет, и издеваются над мэром Безлансом, который, решив покончить с ними, столкнулся с несколькими судейскими чиновниками и блюстителями порядка и учредил какую-то недееспособную лигу. Могу вас заверить, что Катрина-кружевница даже и не слыхала про этого Безланса, да, верно, и не услышит до самой своей кончины, которая будет, как я надеюсь, кончиной, достойной христианки. И вот отсюда я и заключаю, что все эти законы, которыми министры набивают свои портфели, — пустые бумажонки, не способные ни облегчить нам жизнь, ни помешать жить.
— Господин Куаньяр, — сказал гринвичский слесарь, — низменность ваших речей явно свидетельствует, что вы привыкли жить в рабстве. Вы бы не так рассуждали о министрах и законах, если бы подобно мне имели счастье пользоваться благами свободного строя.
— Господин Шиппен, — возразил аббат, — истинная свобода — та, в которой пребывает душа, освободившись от мирских сует. Что же касается общественных свобод, это — нелепая выдумка, которую я не принимаю всерьез. Все это пустые фантазии, коими и тешат тщеславие невежд.
— Я убеждаюсь, слушая вас, — сказал господин Шиппен, — что французы и в самом деле обезьяны.
— Позвольте! — воскликнул мой отец, — размахивая шпиговальной иглой, — среди них попадаются и львы!
— Не хватает, как видно, только граждан, — заметил г-н Шиппен. — У вас в Тюильрийском парке все рассуждают о государственных делах, но никогда из всех этих споров не получается ни одной разумной мысли. Ваш народ — это просто шумный зверинец.
— Сударь, — сказал мой добрый учитель, — что верно, то верно: когда человеческие общества приобщаются к цивилизации, они образуют своего рода зверинцы, ибо прогресс нравов и состоит в том, чтобы жить в клетке, а не скитаться без крова по лесам. И в этом состоянии пребывают ныне все европейские страны.