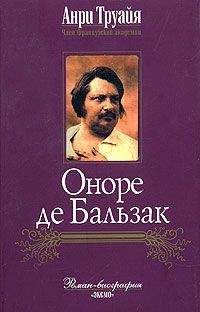Впоследствии этот Бурбон, уже ставший мятежником, женился на Жанне, дочери барона д'Эстиссака, и брак его был бездетным. Естественно, что эти гордые повадки расположили к видаму Екатерину, которая приняла его особенно ласково и сумела сделать из него преданного друга. Историки утверждают, что своим умением нравиться, заслугами и способностями последний из герцогов Монморанси, казненный в Тулузе, походил на видама Шартрского. Но Генрих II не стал ревновать, ему не могло прийти в голову, чтобы королева Франции могла изменить своему долгу или чтобы Медичи позабыла честь, которую оказал ей один из Валуа. В то время когда королева, как говорят, кокетничала с видамом Шартрским, король ее почти совершенно покинул; это было после рождения ее последнего сына. Однако попытка эта ни к чему не привела, ибо Генрих умер, нося цвета Дианы де Пуатье.
После смерти короля Екатерина, как уверяют, была в любовной связи с видамом. Такого рода отношения как нельзя более соответствовали нравам того времени, когда любовь была столь рыцарственной и в то же время столь несдержанной, что самые высокие поступки были так же в порядке вещей, как и самые предосудительные; беда лишь в том, что историки совершили свою всегдашнюю ошибку: исключение они приняли за правило. У Генриха II было четыре сына, и это обстоятельство лишало Бурбонов всякой надежды; все представители этого рода были крайне бедными, а предательство коннетабля бросало на них тень подозрения, независимо от причин, побудивших его покинуть страну. Видам Шартрский, который для первого принца Конде был тем, чем Ришелье для Мазарини, — его отцом в политике, примером, которому он следовал, и к тому же еще наставником в любовных делах, умел скрывать под покровом легкомыслия далеко идущие притязания своего дома. Не собираясь бороться с Гизами, с Монморанси, с Шотландскими принцами, с кардиналами, с герцогом Бульонским, он сумел обратить на себя всеобщее внимание своей любезностью в обращении, манерами, живостью ума, завоевал благосклонность самых очаровательных дам и победил сердца, о которых даже не мечтал. Это был человек, пользовавшийся особыми привилегиями, неотразимый и обязанный всем своим положением только любви. Бурбоны не стали бы сердиться, как Жарнак на клевету де Ла Шатеньре; они отличным образом принимали от своих любовниц земли и замки, как, например, принц Конде принял поместье Сен-Валер от г-жи жены маршала Сент-Андре.
После смерти Генриха II, в течение первых двадцати дней траура, положение видама сразу же изменилось. Он стал пользоваться особым вниманием королевы-матери и в то время, как он ухаживал за нею так, как только было возможно ухаживать за королевой, — в совершенной тайне; он, казалось, был предназначен для выполнения некоей миссии. Екатерина действительно решила воспользоваться его услугами. Она поручила ему передать принцу Конде письмо, в котором она доказывала, что им необходимо объединиться против Гизов. Проведав об этой интриге, Гизы явились в покои королевы, чтобы вырвать у Екатерины приказ о заключении видама в Бастилию. И Екатерине пришлось повиноваться.
Видам пробыл несколько месяцев в заключении и, выйдя из тюрьмы, в тот же самый день умер. Это было незадолго до заговора в Амбуазе. Так окончилась первая и единственная любовь Екатерины Медичи. Писатели-протестанты утверждали, что королева приказала отравить видама, чтобы все, что было между ними, осталось навсегда тайной!.. Вот какой ценой досталась этой женщине наука власти.
Часть первая
МУЧЕНИК-КАЛЬВИНИСТ
I
ДОМ, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ НА УЛИЦЕ, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПАРИЖЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ НЕ ТАКИМ, КАК НЫНЕ
В наши дни мало кто знает, как незатейливо были устроены жилища парижских горожан в XVI веке и как просто они жили. Быть может, именно простота поступков и мыслей этих горожан былых времен и явилась причиною их величия; а ведь они были свободны и благородны; и, быть может, в большей степени, чем буржуазия наших дней; их историю еще только предстоит написать, она требует, чтобы за нее взялся какой-нибудь проникновенный историк, она его ждет. Замысел мой родился под влиянием некоего действительного происшествия, которое и лежит в основе настоящего исследования; происшествие это — одно из самых примечательных в истории городского сословия, и несомненно, что после того, как люди прочтут этот рассказ, говорить о нем будут все. Но разве впервые в истории выводы делаются раньше, чем узнаются факты?
В 1560 году улица Вьель-Пельтри проходила вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-Дам и Мостом Менял. На месте теперешней мостовой была проезжая дорога и стояли дома. Жители каждого из этих домов, расположенных на самом берегу, могли тогда спускаться к реке по деревянным или каменным лестницам. Лестницы эти были защищены со стороны реки крепкой железной решеткой или дверью, обитой гвоздями. В домах здесь, как и в Венеции, имелось два выхода: один на сушу и один на воду. Теперь, когда я пишу эти строки, остался только один-единственный дом, который видом своим напоминает старый Париж, да и тот, пожалуй, скоро будет уже окончательно разрушен. Дом этот расположен на углу Малого моста, напротив кордегардии Городской больницы. В былое время со стороны реки дома эти выглядели очень своеобразно и по виду каждого дома можно было определить, чем занимается его владелец, узнать, какие у него привычки, как хозяин его использует близость к Сене и вместе с тем как он злоупотребляет этой близостью. Чуть ли не на всех мостах, перекинутых через Сену, были построены водяные мельницы, причем мельниц этих было столько, что они не могли не помешать судоходству, и в Париже оказалось, пожалуй, не меньше запруд, чем мостов. Некоторые из этих водоемов старого Парижа пленили бы художника своей живописностью. Какою причудливою лесною чащей выглядели все эти переплеты балок, подпиравших мельницы, их колеса и шлюзы! Какое своеобразное впечатление производили эти торчавшие из воды сваи, которые служили опорою нависающим над рекою зданиям! К сожалению, жанровых картин тогда еще не писали, искусство гравюры было в младенческом состоянии, и это редкостное зрелище потеряно для нас безвозвратно. В миниатюре, правда, все это сохранилось еще в иных наших провинциальных городах, где зубчатые берега реки застроены деревянными домиками или где, как, например, в Вандоме, в заросших тиной запрудах огромные решетки разделяют друг от друга участки разных владельцев, расположенные на том и другом берегу.
Само название этой улицы, которой теперь уже не найти на плане, достаточно ясно говорит о том, чем славились ее обитатели[84]. В то время горожане, промышлявшие одним и тем же ремеслом, не были рассеяны по всему городу, а, напротив, сосредоточивались где-то в одной его части и, таким образом, представляли собой внушительную силу. Они бывали объединены в цех, который ограничивал их численность; к тому же их объединяли еще и церковные братства. Все это позволяло им поддерживать цены на определенном уровне. Притом мастера не были тогда на поводу у своих работников и не выполняли их прихотей, как в наши дни; напротив, они заботились о них, старались относиться к ним, как к собственным детям, посвящая их во все тонкости своего искусства. Чтобы стать мастером, ремесленник должен был создать какое-нибудь замечательное произведение, и он неизменно посвящал свой труд святому — покровителю братства.
Не станете же вы утверждать, что отсутствие конкуренции вело к отказу от совершенства и лишало изделия красоты? Не ваши ли восторги перед творениями старых мастеров создали новую профессию — торговца старинными вещами?
В XV и XVI веках торговля мехами переживала эпоху своего расцвета. Добывать пушнину было тогда делом нелегким: приходилось совершать длинные и опасные путешествия в северные страны; в силу этого меха ценились чрезвычайно дорого. В те времена, так же как и теперь, высокие цены только повышали спрос: ведь тщеславие не знает преград. Во Франции, а равным образом и в других странах ношение мехов было установленной королевским указом привилегией знати, и это объясняет, почему горностай так часто фигурирует на старинных гербах; некоторые редкостные меха, как, например, vair, который, вне всякого сомнения, есть не что иное, как королевский соболь, имели право носить одни только короли, герцоги и занимающие определенные должности вельможи. Различали vair, состоящий из мелких, и vair, состоящий из крупных шкурок; слово это уже лет сто как вышло из употребления и до такой степени забылось всеми, что даже в бесчисленных переизданиях «Сказок» Перро про знаменитую туфельку Золушки, которая первоначально была, по-видимому, из мелкого vair, в настоящее время говорится, что она хрустальная (verre). Недавно один из наших самых выдающихся поэтов вынужден был восстановить правильное написание этого слова, дабы просветить своих собратьев-фельетонистов в своей рецензии об опере «Cenerentola»[85] где символическая туфелька заменена ничего не значащим кольцом. Нет ничего удивительного, что, к великому удовольствию меховщиков, запреты, связанные с ношением мехов, постоянно нарушались. Высокие цены на материи и на меха приводили к тому, что каждый предмет одежды становился столь же долговечным, как мебель, оружие и другие аксессуары устойчивой жизни XV столетия. У дамы, у вельможи, у любого состоятельного человека, а равно и у любого горожанина было не более двух комплектов одежды для каждого сезона; носили эту одежду всю жизнь, а когда владелец ее умирал, она переходила по наследству к его детям. Поэтому перечисление оружия и одеяний, совершенно почти ненужное в брачных контрактах нашего времени в силу того, что носильные вещи беспрестанно обновляются и стоят не так уже дорого, в ту эпоху имело первостепенное значение. Дороговизна одежды приводила к тому, что она всегда бывала добротной. Предметы женского туалета составляли огромный капитал, которому в семье вели счет и который хранился в сундуках столь тяжелых, что под ними неминуемо обвалились бы потолки современного дома. Парадное платье женщины 1840 года могло быть разве только домашней одеждой у светской дамы 1540 года. В наши дни открытие Америки, легкость передвижения, отмирание сословных различий, подготовившее отмирание различий внешних, повергли торговлю мехами в то состояние, в котором она пребывает сейчас, то есть почти совершенно свели ее на нет.