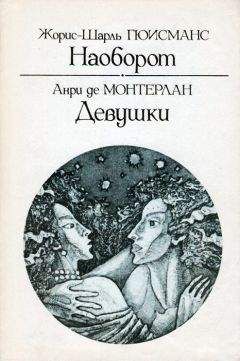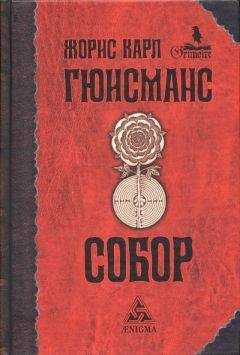Дез Эссэнт думал, что никогда, ни в одну эпоху, акварель не могла достичь такого колористического блеска; никогда бедность химических красок не побуждала вспыхнуть на бумаге сияние, подобное драгоценным камням, свет, похожий на витражи, пронизанные лучами солнца, столь сказочную роскошь, столь ослепительные ткани и тела.
Потерявшись в созерцании, он исследовал родословную этого великого художника, мистического язычника, иллюмината, сумевшего отвлечься от реальности настолько, что увидел в суматохе Парижа сверкание жестких видений, феерические апофеозы иных веков.
Родословная… Дез Эссэнт едва различал ее: кое-где — расплывчатые воспоминания о Мантенье и Якопо де Барбари; кое-где — смутные наваждения да Винчи и цветовые лихорадки Делакруа; однако влияние этих мэтров в общем-то было незначительным; по правде сказать, Гюстав Моро ни от кого не происходил.{16}
Без явного предка, без возможных потомков, он оставался в современном искусстве одиночкой. Добираясь до этнографических источников, до начал мифологий, кровавые загадки которых он сравнивал и распутывал; собирая, сплавляя воедино легенды, вытекшие из Древнего Востока и засоренные верованиями других народов, он доказывал так свои архитектонические соединения, свои роскошные и неожиданные амальгамы тканей, свои страшные аллегории, обостренные беспокойной ясностью абсолютно современной нервозности; он навсегда сохранил болезненность, осаждаемый символами сверхчеловеческих извращений и страстей, божественных прелюбодеяний, совершенных без самозабвения, без надежды.
Было в его отчаянных и "эрудированных" картинах какое-то странное очарование, магия, встряхивающая все нутро зрителя, как чары некоторых стихотворений Бодлера; изумление, оцепенение, замешательство охватывало перед этим искусством, переходящим границы живописи, заимствующим у литературы самые неуловимые аналогии, у Лимозена — великолепный блеск, у гранильщиков и граверов — самые изысканные тонкости. Двумя образами Саломеи дез Эссэнт беспредельно восхищался: они жили перед его взором, на стене кабинета, между книжными полками.{17}
Но это были не единственные шедевры, купленные для украшения одиночества.
Хотя он пожертвовал вторым этажом, где он жил, стены первого тоже нужно было разодеть.
Вот что представлял собой первый этаж:
Туалетная комната, сообщаясь со спальней, занимала один из углов дома; из спальни можно было попасть в библиотеку, из библиотеки в столовую, образующую другой угол.
Составляя один из фасадов строения, эти комнаты находились на одной линии с окнами, выходящими на долину Онэ.
Другой фасад состоял из четырех комнат с аналогичным расположением. Следовательно, кухня составляла угол и сообщалась со столовой; большой вестибюль, служащий входом — с библиотекой; нечто вроде будуара — со спальней; нужник, обрисовывая угол, — с туалетной комнатой.
Во все эти комнаты свет проникал со стороны, противоположной долине Онэ; окна выходили на башню Круа и Шатийон.
Что касается лестницы, то она была прижата к одному из боков дома с внешней стороны; шаги слуг, задевая ступени, доходили до слуха дез Эссэнта приглушенными.
На всех стенах ярко-красного будуара были развешаны в эбеновых рамах эстампы Яна Люйкена — старого голландского гравера, почти неизвестного французам.
Дез Эссэнт был обладателем серии "Религиозные гонения", созданной изысканным и унылым, горячим и жестоким мастером; эти гравюры изображали все пытки, изобретенные религиозным умопомрачением; здесь выли человеческие страдания: тела, поджаривающиеся на углях; черепа, снимаемые саблями, трепанируемые гвоздями и распиливаемые; внутренности, извлеченные из живота и накрученные на шпульки; ногти, медленно выдираемые клещами; выколотые зрачки; заворачиваемые иглами веки; вывихнутые, старательно ломаемые члены; обнаженные кости, тщательно соскабливаемые лезвием.
От этих вещей, кишащих мерзкими фантазиями, воняющих горелым мясом, потеющих кровью, наполненных воплями ужаса и анафем, мурашки пробегали по коже дез Эссэнта; он буквально задыхался в красном кабинете.
Но, кроме вызванной ими дрожи, кроме восхищения страшным талантом художника и необычайного духа, оживлявшего его героев, поразительная реконструкция быта эпохи обнаруживалась в этих размножениях толп, в людских потоках, схваченных с ловкостью иглы, напоминающей иглу Калло, но с мощью, которая и не снилась нашему забавному пачкуну: архитектура, костюмы, нравы эпохи Маккавеев, Рима во времена преследования христиан, Испании под владычеством Инквизиции, Франции в Средние века, в Эпоху Варфоломеевской ночи и Драконнад — наблюдены с боязливым старанием и запечатлены с высочайшим искусством.
Эти эстампы можно было без устали, часами созерцать; давая пищу для размышлений, они нередко помогали дез Эссэнту убивать время, были научными рудниками, когда не хотелось читать.
Сама жизнь Люйкена притягивала его; в ней, впрочем, таилось объяснение его галлюцинаций. Пламенный кальвинист, закоренелый сектант, помешанный на псалмах и молитвах, он сочинял религиозные гимны и сам же иллюстрировал; перелагал псалмы в стихи, опьянялся Библией, из которой выскакивал в экстазе, рассвирепевший, с мозгом, пропитанным кровавыми сюжетами, и ртом, искаженным проклятиями Реформы, песнями ужаса и гнева.
Вместе с тем, он презирал свет, раздал имущество беднякам, питался корками хлеба; кончилось тем, что отчалил на корабле вместе со старой служанкой, сделав из нее фанатичку, и плыл, куда глаза глядят, куда гнало его судно, всюду проповедуя Евангелие, стараясь совсем не есть, став полусумасшедшим, почти диким.
В соседней комнате, более крупной, в вестибюле, украшенном кедровыми панелями цвета ящика для сигар, были развешаны другие гравюры, другие рисунки.
"Комедия Смерти" Бредена: посреди невероятного пейзажа, ощетиненного деревьями, лесосеками, зарослями, напоминающими демонов и призраков, покрытом птицами с крысиными головками, с овощными хвостиками; на земле, усеянной позвонками, ребрами, черепами, поднимаются дуплистые и узловатые ивы; над ними, воздев руки, трясутся скелеты, — букет, распевающий победную песнь; а в это время Христос удирает в небо, покрытое облачками, отшельник размышляет в глубине пещерки, сжав голову в ладонях, нищий умирает, истощенный лишениями, изголодавшийся, лежа на спине, перед лужей.
"Добрый Самаритянин" того же автора; огромный рисунок пером, сделанный на литографическом камне: экстравагантная суматоха пальм, рябин, дубов, растущих вместе, назло временам года и климатам; буйство девственного леса, изрешеченного обезьянами, сычами, совами, изгорбаченного старыми пнями, уродливыми, как корень мандрагоры; магический высокоствольный лес, продырявленный в центре просветом, который позволяет различить вдалеке, за верблюдом, Самаритянином и раненым реку, потом феерический город, наваливающийся на горизонт, карабкающийся на потешное небо, где пунктиром — птицы, барашками — волны и тюками — облака.
Можно подумать, что эта работа примитива, невоспитанного Альбрехта Дюрера; что ее замыслил мозг, прокуренный опиумом; но, хотя дез Эссэнт и любил тонкость деталей, импозантную манеру этой литографии, большее внимание уделял другим вещам, находящимся в комнате.
Они были подписаны: Одилон Редон.{18}
Грубые из грушевого дерева багеты с золотой каймой запирали нечто невообразимое: меровингского стиля голова в чаше; бородач — одновременно бонза и уличный оратор — прикасается пальцем к ядру колоссальной пушки; жуткий паучина с человечьей рожей вместо брюха; другие рисунки углем заходили еще дальше в ужас грезы, встревоженной приливом крови. Вот огромная игральная кость, где мигает печальное веко; вот сухие, бесплодные пейзажи, обожженные равнины, землетрясения, извержения вулканов, что цепляются за взволнованные тучи, застывшие бледные небеса; иногда казалось, что сюжеты заимствованы из кошмара науки, из предысторических времен: чудовищная флора распускается на скалах; повсюду эрратические валуны, ледниковые отложения, персонажи обезьяньего типа; их толстые челюсти, выступающие надбровные дуги, покатые лбы, сплющенные макушки напоминают головы предков, головы первого четвертичного периода, еще плодоядного безмолвного человека, современника мамонта, носорога с перегороженными ноздрями и большого медведя. Это из ряда вон выходящие рисунки; они раздвигали границы искусства, обновляли фантастику болезненностью лихорадки.
В самом деле: некоторые лица были сожраны огромными глазами, глазами безумцев; некоторые тела, безмерно увеличенные, как бы видные сквозь воду графина, вызывали в памяти дез Эссэнта воспоминания о тифозной лихорадке, так и не выветрившиеся воспоминания о пылающих ночах, страшных видениях детства.