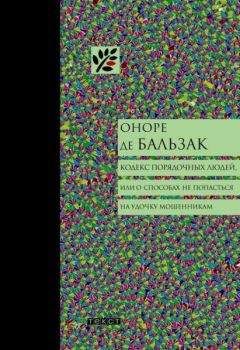— Сударь, вас спрашивает господин Реньо.
— Господин Реньо? Кто это такой?
— Вы не знаете, кто такой господин Реньо? Странно, — проговорила она уходя.
И вдруг передо мной вырос долговязый хилый человек в черном, с шляпой в руке, появившийся, словно баран, готовый броситься на врага. Я увидел покатый лоб, клинообразную голову и какое-то серое лицо, похожее на стакан с мутной водой. Вот такие бывают привратники у министров. На этом человеке был поношенный сюртук, сильно потертый по швам, но в жабо его сорочки сверкал бриллиант, а в ушах были золотые серьги.
— Сударь, с кем имею честь? — спросил я.
Он сел на стул, придвинулся к огню, положил шляпу на стол и, потирая руки, ответил:
— Какой холод! Сударь, моя фамилия Реньо.
Я поклонился, подумав: «Ну и что же?»
— Я — вандомский нотариус, — продолжал он.
— Очень приятно, сударь, — воскликнул я, — но по некоторым личным соображениям я отнюдь не собираюсь писать завещания.
— Минуточку! — сказал он, подняв руку, словно призывал меня к молчанию, — позвольте, сударь, позвольте! Мне стало известно, что вы иногда прогуливаетесь в парке Гранд-Бретеш.
— Прогуливаюсь, сударь.
— Минуточку! — и он повторил тот же жест. — Тем самым вы совершаете правонарушение. Сударь, я пришел к вам во имя покойной графини де Мерэ и в качестве ее душеприказчика с просьбой прекратить эти прогулки. Минуточку! Я не дикарь и отнюдь не собираюсь обвинять вас в преступлении. К тому же вполне естественно, что вы не подозреваете причин, которые заставляют меня не препятствовать разрушению самого прекрасного в Вандоме особняка. Однако, сударь, вы как будто человек образованный и должны знать, что закон предусматривает строгие кары за вторжение в частное владение, находящееся на запоре. Изгородь — та же стена. Правда, извинением вашему любопытству может служить состояние, в котором находится дом. Я был бы очень рад разрешить вам сколько угодно ходить туда, однако, являясь душеприказчиком покойной владелицы, я обязан, сударь, просить вас прекратить посещение ее парка. Я и сам, сударь, с того часа, как вскрыл завещание, не переступал порога этого дома, который, как я имел честь доложить вам, является частью наследства, оставшегося после госпожи де Мерэ. Мы только переписали все окна и двери, чтобы установить размер налога, который я и плачу ежегодно из сумм, завещанных на это покойной графиней. Ах, сударь, ее завещание наделало немало шуму в Вандоме!
Тут достойный человек умолк и высморкался. Я с уважением отнесся к его болтливости, прекрасно понимая, что завещательное распоряжение госпожи де Мерэ является самым значительным событием его жизни, основою его репутации, всей его славы и благоденствия. Приходилось сказать «прости» моим чудесным мечтаниям, моим выдумкам, и я поддался искушению узнать истину от служителя закона.
— Сударь, — спросил я, — если вы не сочтете это нескромностью с моей стороны, разрешите спросить у вас о причинах столь странного завещания?
При этих словах на лице нотариуса мелькнуло выражение, появляющееся у людей, когда они садятся на своего любимого конька. Он несколько фатовато поправил воротничок сорочки, вынул табакерку, открыл ее, предложил мне табаку и, когда я отказался, взял большую понюшку. Он был совершенно счастлив. Человек, не имеющий любимого конька, не подозревает, каких наслаждений он лишает себя. Любимый конек — это нечто среднее между страстью и помешательством. В эту минуту я во всей полноте понял Стерна и целиком постиг ту радость, с которой дядюшка Тоби, при помощи Трима, садился на своего боевого коня[59].
— Сударь, — сказал мне господин Реньо, — я был первым клерком у Рогена[60], в Париже. Превосходная контора! Вы о ней, вероятно, слышали? Нет? А между тем несчастное банкротство сделало ее знаменитой. Не имея достаточно средств, чтобы устроится в Париже, где в 1816 году цены на нотариальные конторы сильно возросли, я приехал сюда с целью купить контору моего предшественника. В Вандоме у меня были родственники, и среди них очень богатая тетка, на дочери которой я женился. Сударь, — продолжал он, передохнув, — спустя три месяца после того, как я был утвержден господином министром юстиции, однажды вечером, когда я уже собирался ложиться спать (я тогда еще не был женат), меня вызвали к графине де Мерэ, в ее поместье Мерэ. Служанка, достойная девица, которая в настоящее время служит в этой гостинице, ждала меня у ворот в коляске графини. Минуточку! Надо вам сказать, сударь, что граф де Мерэ за два месяца до того, как я поселился здесь, уехал в Париж и там умер. Кончил он плохо, так как стал предаваться всевозможным излишествам. Понимаете? В день его отъезда графиня де Мерэ покинула Гранд-Бретеш и вывезла оттуда всю обстановку. Некоторые утверждали, будто она даже сожгла мебель, ковры, одним словом все предметы, кои составляют обстановку дома, ныне находящегося во владении вышеупомянутого лица... Постойте, что это я, однако, говорю?.. Извините, мне показалось, что я диктую арендный договор... Итак, она будто бы сожгла всю мебель на лугу в Мерэ. Бывали вы в Мерэ, сударь? Нет, конечно, — ответил он за меня, — ах, это очень живописное место! До отъезда из Гранд-Бретеш, — продолжал он, слегка кивнув головой, — граф с графиней месяца три вели несколько странный образ жизни. Они перестали принимать гостей, жили на разных половинах: графиня в нижнем этаже, граф — наверху. Оставшись одна, графиня выходила только в церковь; она отказывалась принимать друзей и подруг, приезжавших навестить ее. Когда она покинула Гранд-Бретеш, чтобы переехать в Мерэ, она уже сильно изменилась. Драгоценная женщина! Я говорю «драгоценная», так как этот бриллиант получен мною от нее; но я ее видел, впрочем, один-единственный раз... Итак, эта добрая женщина была тяжело больна. Видимо, она считала свою болезнь неизлечимой, ибо скончалась, так и не прибегнув к помощи врача. Правда, многие из наших дам полагали, что она немножко была не в своем уме. Поэтому мое любопытство, сударь, было сильно возбуждено, когда я узнал, что госпожа де Мерэ нуждается в моих услугах. Да и не я один интересовался этой историей. В тот же вечер, хотя час был поздний, весь город уже знал, что я приглашен в Мерэ. На вопросы, которые я задавал в пути служанке, она отвечала очень неопределенно. Все же она сказала, что днем ее госпожу исповедовал кюре и что вряд ли она доживет до утра. Часов в одиннадцать мы приехали в замок. Я поднялся по большой лестнице, затем, пройдя целую анфиладу высоких темных покоев, чертовски холодных и сырых, добрался до парадной спальни, где находилась графиня. По слухам, носившимся об этой женщине, — сударь, я никогда не закончу своей истории, если начну передавать все россказни, ходившие на ее счет, — я воображал, что увижу светскую львицу. Представьте же себе, что я с трудом разглядел ее на огромной кровати, где она лежала. Правда, этот обширный покой с фризами в старорежимном стиле, до такой степени запыленными, что при одном взгляде на них уже хотелось чихать, освещался только одной масляной лампой. Ах, да! Ведь вы никогда не бывали в Мерэ! Так вот, сударь, там была старинная кровать, с балдахином из набивной узорчатой материи; возле кровати стоял ночной столик, а на нем лежало «Подражание Христу»[61]. Как книгу, так и лампу, замечу в скобках, я впоследствии приобрел для жены. Тут же рядом стояло мягкое кресло для служанки и два стула. Камин не топился. Вот и вся обстановка. В инвентарной описи она не заняла бы и десяти строк. Ах, сударь, если бы вы видели, как довелось увидеть мне, эту огромную спальню, затянутую коричневым штофом, вам показалось бы, что вы перенеслись на страницу какого-то романа. От всего веяло ледяным холодом, больше того, веяло смертью, — проговорил он, театральным жестом воздев руку, и сделал паузу. — Лишь подойдя вплотную к кровати и пристально всмотревшись, — продолжал он, — я разглядел, наконец, госпожу де Мерэ; да и то благодаря тому, что свет от лампы падал на подушки. Лицо у графини было желтое, как воск, и напоминало сжатый кулачок. На ней был кружевной чепчик, из-под которого выбивались прекрасные, но совсем седые, белые как лунь волосы. Она приподнялась, хотя это стоило ей, видимо, неимоверных усилий. Большие черные глаза, провалившиеся от болезни, уже почти угасшие, смотрели неподвижным взглядом. «Садитесь», — прошептала она, чуть приподняв брови. Ее лоб покрылся испариной. Худые руки были словно кости, обтянутые тонкой кожей; на них отчетливо проступали все вены, мышцы. Когда-то она была, наверно, красавицей. Но в ту минуту при взгляде на нее какое-то неописуемое чувство овладело мною. По словам людей, облачавших ее в саван, они просто ужасались ее худобе. Словом, то была жуткая картина. Болезнь так изглодала эту женщину, что она казалась призраком. Когда она заговорила, синеватые губы ее как будто не шевелились. Хотя моя профессия и приучила меня к подобным зрелищам и мне не раз доводилось у изголовья умирающих скреплять их завещания, признаюсь вам, что слезы родных и агония этих умирающих не производили на меня такого тяжелого впечатления, как смерть этой одинокой, молчаливой женщины в ее обширном замке. Не слышно было ни малейшего звука, даже не видно было легкого движения покрывала, которое приподнималось бы от дыхания больной. Я стоял неподвижно, глядя на нее в каком-то оцепенении. Я вижу ее как сейчас. Наконец ее большие глаза ожили, она попыталась поднять правую руку, но рука бессильно упала на постель, и чуть слышный шепот, словно вздох, слетел с ее уст.