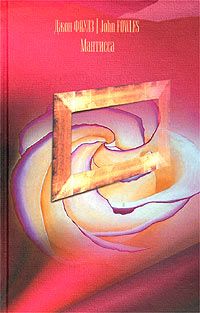— Очень многим и в голову бы никогда не пришло.
— Да пошли они все! — Она сердито тычет большим пальцем себе в грудь, туда, где на футболке намалеван пистолет. — Учти — сестричку охмурить не так-то легко. Не надейся и не жди. Кто ты есть-то? Типичный капиталистический сексуальный паразит. Только горя с тобой и нахлебалась, идиотка такая, с тех пор как решила время на тебя потратить. — Он и рта не успевает раскрыть — она продолжает: — Трюки всякие. Игрушечки. Только и пытается эксплатнуть, и в хвост и в гриву. Но так и знай — это в последний раз тебе со мной удается, ты, подонок! — Она лягает пяткой кровать. — Что ты из моего лица-то сделал? Из моего тела? Вырезалку картонную?
— Но я же дал всего лишь общее описание.
— Дерьмо!
— Мы же когда-то были такими друзьями!
Она передразнивает его тон:
— «Мы же когда-то были такими друзьями!» — и снова трясет головой в его сторону. — Я тебя с незапамятных времен насквозь вижу. Все, чего тебе надо, — это разложить меня по-быстрому.
— По-моему, вы меня с кем-то путаете. С Вальтером Скоттом. А может, с Джеймсом Хоггом[21].
Она прикрывает веки, будто считает до пяти, потом снова впивается в него уничтожающим взглядом:
— Господи, вот если бы ты тоже был персонажем! И я могла бы просто стереть тебя со всеми твоими бездушными, бесполыми, бумажными марионетками.
Она отирает рот тыльной стороной ладони. Он предпочитает немного помолчать.
— Вы сознаете, что ведете себя, скорее, как мужчина?
— Эт ты что хочешь этим сказать?
— Моментальные оценочные суждения. Интенсивное сексуальное предубеждение. Не говоря уже о попытке укрыться за ролью и языком, свойственными среде, к которой вы вовсе не принадлежите.
— Закрой варежку!
— Начнем с того, что вы смешали формы трех совершенно различных субкультур, а именно спутали бритоголовых с «Ангелами ада» и панками. А они, знаете ли, совершенно не похожи друг на друга.
— Да заткнешься ты когда-нибудь, черт стебаный!
Глаза ее снова мечут черный огонь, но Майлз Грин чувствует, что ему наконец удалось ответить, пусть и не таким уж сильным, но все-таки ударом на удар, потому что она вдруг отворачивается от него, по-прежнему стоящего в углу, через голову стягивает с плеча лямку гитары и сердито швыряет инструмент на кровать. С минуту она так и стоит отвернувшись. Куртка ее на спине украшена изображением черепа — белого на черном, под черепом — слова, начертанные нацистски-готическим шрифтом, заглавными буквами: «СМЕРТЬ ЖИВА!» Потом она поворачивается, протянув руку и уставив в него указательный палец:
— А теперь запомни. Отныне правила устанавливаю я. Понятно, нет? Если ты когда-нибудь еще… kaput! Представление окончено. Это ясно?
— Как солнце вашей родины.
Она смотрит на него не мигая.
— Тогда пошел вон. — Скрестив на груди руки, она указывает головой куда-то вбок. — Пошел. Вон отсюда!
Он приподнимает резиновую подстилку на один-два дюйма:
— Но я же раздет.
— Здорово! Теперь весь распрогребаный мир увидит, что ты на самом деле такое. А еще — надеюсь, ты схватишь смертельную простуду.
Он колеблется, пожимает плечами, делает пару шагов босиком по изношенному ковру цвета увядающей розы, направляясь к двери, но останавливается.
— Может, хоть руки друг другу пожмем?
— Ты что, шутишь? Совсем с ума сбесился?
— Мне и вправду кажется, что приговор вынесен без суда и следствия. Я ведь просто пытался слегка откомментировать…
Она подается вперед:
— Слушай. Каждый раз, как я что-нибудь себе всерьез позволяла, ты принимался издевки строить. Не-ет, я тебя раскусила, дружище. Такой свиньи еще свет не видал. Numero Uno![22] — Она сверкает глазами в сторону двери, и снова ее похожая на изображение черепа голова, увенчанная белыми иглами волос, делает движение вбок. — Вон!
Он совершает еще два шага, двигаясь спиной вперед, словно придворный перед королевой давних времен, поскольку резиновая подстилка недостаточно широка, чтобы обернуть ее вокруг пояса, и опять останавливается.
— Я ведь мог все это сделать много хуже.
— Ах вот как?
— Мог бы изобразить, как вы, слащаво напевая, бродите в оливковых рощах, облаченная в прозрачную ночную сорочку, словно Айседора Дункан в свободное от спектаклей время.
Она упирает руки в бока. Голос звучит, как змеиное шипение:
— Ты что, блин, настолько обнаглел, что предполагаешь…
— Уверен, это имело какой-то смысл. Во время оно.
Она стоит — руки в боки, ноги врозь. Впервые в ее глазах помимо гнева брезжит что-то еще.
— Но теперь-то такое только ржать нас может заставить, нет, что ли? Ты про это?
Он скромно пожимает плечами:
— Это и в самом деле представляется некоторой нелепостью. Раз уж вы сами об этом упомянули.
Она кивает несколько раз. Потом говорит сквозь зубы:
— Ну, валяй дальше.
— Разумеется, ни в коем случае не как чисто литературная концепция. Или как часть иконографии ренессансного гуманизма. Ботичелли и всякое такое.
— И все-таки — хренотень?
— Мне и в голову не пришло бы такое неприличное слово употребить. Мне самому.
— Ну ладно, выкладывай. Какое слово ты сам бы употребил?
— Наивность? Сентиментальность? Легкое сумасшествие? — Он торопливо продолжает: — Я хочу сказать, ну вот Богом клянусь, — вы ведь можете выглядеть потрясающе. Этот черный костюм в облипочку, что был на вас в прошлый раз…
Руки ее резко опускаются вниз, кулаки сжаты. Он менее уверенно продолжает:
— Поразительно!
— Поразительно?
— Совершенно поразительно. Незабываемо.
— Ну да. Мы все знаем, какой у тебя вкус, блин. Только тебе и судить. Особенно когда дело доходит до того, чтобы унижать женщин, превращая нас в одномерные объекты сексуальных притязаний.
— Я полагаю, двухмерные были бы…
— Да заткнись ты! — Она некоторое время рассматривает его, потом отворачивается и берет с кровати гитару. — Думаешь, ты такой, на хрен, умный, да? «Иконография ренессансного гуманизма», Господи ты Боже мой! Да ты и не знаешь ни фига! Не представляешь даже, как я на самом деле выглядела, когда только начинала. Да я прошла такие ренессансы, и столько их было, что ты столько хлебцев поджаренных за всю жизнь на завтрак не съел.
— Понимаю.
— Ишь ты какой — понимает он! Ты всю жизнь на это напрашивался. Вот теперь и получай! Ублюдок самодовольный!
Ее правая рука начинает перебирать струны, негромко наигрывая мелодию давних времен, в лидийском стиле[23]. Преображение происходит не сразу, образ словно тает, медленно, едва заметно, и все же поражает воображение. Волосы становятся мягче и длиннее, полнятся цветом; безобразный грим исчезает с лица, теряет цвет одежда, да и сама одежда растворяется, меняет форму, превращается в тунику из тяжелого белого шелка. Туника плотно окутывает тело, оставляя обнаженными обе руки и одно плечо, и спускается ниже колен. У талии она перехвачена шафрановым поясом. В тех местах, где шелк натянут, он не совсем непрозрачен. Исчезают сапоги: теперь ее ноги босы. Волосы, ставшие совсем темными, стянуты в узел — в греческом стиле. Лоб опоясывает изящный венок из нежно-кремовых розовых бутонов вперемежку с листьями мирта, а гитара превратилась в девятиструнную лиру, на которой теперь, когда метаморфоза свершилась, она наигрывает ту же давнюю лидийскую гамму — в обратном порядке.
Лицо будто бы то же самое, но моложе, словно ей удалось сбросить лет пять; на ее коже играет золотисто-медовый теплый отблеск, его выгодно подчеркивает белизна прилегающей к телу туники. Что же касается общего впечатления… лица, посылавшие в плавание тысячи кораблей, — ничто по сравнению с этим. Это лицо могло бы заставить вселенную остановиться в своем вечном движении и оглянуться. Она роняет лиру, позволяя ему глазеть раскрыв рот на это несомненное чудо — божество древнейших времен. Несколько мгновений проходят в молчании, но тут она упирает руку в бок. Кое-что, как видно, остается без изменений.
— Итак… Мистер Грин?
Голос ее тоже успел утратить былые, не вполне безопасные акценты и интонации.
— Я был целиком и полностью не прав. Вы выглядите ошеломляюще. Не от мира сего. — Он пытается найти подходящее слово — или делает вид. — Почти как ребенок. Кажетесь такой ранимой. Нежной.
— Более женственной?
— Несравненно.
— Легче такую эксплуатировать?
— Я вовсе ничего такого не имел в виду. Правда… просто мечта! Такую девушку хочется пригласить домой — с мамочкой познакомить. А розовые бутончики — ну восторг!
В ее голосе звучат нотки подозрения:
— Что плохого в моих розовых бутонах?
— Это — гибридная чайная роза «офелия». Боюсь, ее не выращивали до тысяча девятьсот двадцать третьего года.