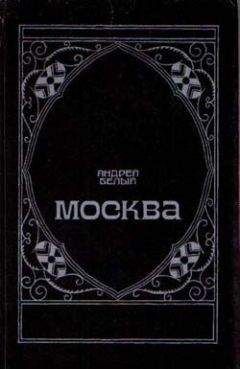Вот крепкий, как крепость, забор: перезубренный; гнется береза в окрапе коричнево-сером: и – зашебуршало, как стая мышей из бумаги; в воротах сидит инвалид, в прыщах красных: Пупричных: глядит в глубину разметенной дорожки, с которой завеялись с красной гирляндой слетающих листьев – и шали, и полы пальто; лица – красно-коричневы (с ветра); юбчонку охватывает вертохват.
Но яснеет, под небо встав, яркий жарч кровель и крыш; из расхлестанных веток является розово-белый подъезд; два окна; вот – под ветви уныривают; но расхлещутся ветви, – и вновь выплывает карниз с подоконным фронтоном; туда Аведик Дереникович Тер-Препопанц поведет, точно стадо баранов, больных интеллектом людей с исключительно нервными лицами, с жестом, в котором – подчеркнутость брошенной позы.
Сюда приходя, волновался; там, за воротами, – точно в водянке оплывшие рожи коптителей Девкиного переулка; здесь – мысль в напряжении; здесь – острота, пылкость, смысл!
Но не то полагал Пятифыфрев:
– И бродят, и бродят!
Пупричных, привстав и плечо на костыль положивши, ответствовал:
– От мозголома… А энтот, – и он показал на мужчину с заколотым розовым галстухом, в фетровой шляпе и в сером пальто с отворотами, – тутовый он?
– Пертопаткин, – родными посажен за то, что войну отрицает!
– Резонно, – Пупричных насытился зрелищем; и – под воротами отколтыхал костылем.
– Фатализм – очень вредное верованье, развращаюшее наши нравы, как и шовинизм, наступательный патриотизм, – приставал Пертопаткин, Кондратий Петрович, к Пэпэш-Довлиашу.
Пэпэш-Довлиаш, Николай Николаич, профессор, толстяк, психиатр, вид имел добродушного лося; подрагивая и как будто паркет растирая ногою, с приплясочкой, вытянув челюсть и губы напучив, как для поцелуя, – спросил Пертопаткина:
– Как самочувствие?
– Прямо божественное!
Николай Николаич рукой с карандашиком, глазками и котелком – к Препопанцу:
– Клистир ему ставили?… Ставьте!… – и прочь отбежал, чтобы оцепенеть: глаз – бараний, пустой.
Аведик Дереникович знал: диагноз устанавливает; интуиция действует с молниеносною силой; почтенное имя, профессор:
– Плох, плох, – гулэ ву?[14]
Поговорку, которой кончались прогнозы, – плэт'иль[15], «гулэ ву» – говорил ассистенту, больному, себе самому, задрожавши игриво ногою и спрятавши руку в карман; «гулэ в у» – означало: составлен научный прогноз; и теперь место есть для стечения мыслей игривых о ближнем, который и есть – «гулэ ву», потому что нормальная мысль пациента и так, вообще, человека, – блудлива и ветрена. Сам Николай Николаич глумился над ближним, «Тонкинуаз»[16] распевая и ровно в двенадцать часов по ночам с Львом Михайловичем воскресая в Кружке, где в железку он резался с князем Сумбатовым-Южиным.
Вставив клистир в Пертопаткина, целился он: на кого бы напасть.
– Вышел за карасями: удить, – говорил Пятифыфрев, – червя им покажет; разинув рты, – цап: и сидят с пузырем на башке они.
– Каждый – в позиции: – мыслил Пупричных, – тот – козырем ходит, а этот сидит с пузырем!
Николай Николаич – нацелясь на бледного юношу, из-за куста к нему – ястребом:
– Вы, Болеслав Пантукан, – кто же, собственно?
– Я – конехвост!
Николай Николаич – трусцою, трусцой: в каре-красные листья.
Огромное поле для всяких разглядов; к примеру: Хампауэр старик, в сединах и в халате: крещеный еврей, состоятельный, но – паралитик, влачащийся на костылях, с фронтовой полосы по доносу захваченный, чуть не повешенный, – явно рехнулся; с усилием перевезли его дети в Москву; ходит здесь; проповедует – свое пришествие.
– Нам хорошо с вами, батюшка: мир-то – во зле!
Так он, овощь откусывая, приговаривал; стибривая несъедобные овощи, их называл «мандрагорами».
– Бросьте: опять с мандрагором, – его урезонивали.
С сожалением редьку гнилую бросал.
Серафима Сергевна себе улыбалась: осмысленность службы в сравнении с тем, что свершалось за розовым этим забором, – вставала; там – зло; пробежала в подъезд, коридорами, за нарукавничком, за белым фартучком; звали больные снегуркой ее; как повяжется, так день – взапых; всюду бегает: чистые скатерти стелет; и знает, что можно окурок просыпать на стол, – не на скатерть: конфузно; и делалось как-то за скатертью крупное дело: больные себя не засаривали.
Он губами писал, как губернии
Дым из-за труб; разъясненье, растменье редеющее, сине-сизое, голубо-сизое; встали малиновые и оранжево-карие пятна деревьев, не свеявших листья; дом розовый бело-колонный подъездом и белою лепкой гирлянд поднимал расширения окон, как очи, вперенные в голубоватый прозор.
Распахнулся оконный квадрат: чье жилье? Штора, веко, – открылась; но – мгла из-за шторы глядела; и кто-то к окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе; старик коренастый – в халате: фон – голубо-серый, с оранжево-карею, с кубовою игрой пятен; он кистью играл, а на глазе – квадратец заплаты безглазился.
Каждое утро – окно открывалось; и в нем появлялся старик этот пестрый: на черной заплате вселенной стоять.
А позднее больные валили в открытые двери подъезда; их вел Аведик Дереникович Тер-Препопанц, ординатор и доктор по нервным болезням; с ним шли: Плечепляткин, студент, сестра в белом и унтер в отставке, седой Пятифыфрев, с седым инвалидом, – с Пупричных, – влачащимся на костылях.
Новички под окном – старику и халату дивились: расспрашивали:
– Кто такой?
– Он – профессор своей знаменитости: глаз ему жгли, колотили; ум выколотили!
Неприятный толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, параноик, – учил их:
– Сиди под кустом, за листом: не стучи, – гром убьет!
– Да смирней он теленка!…
– А били за что?
– За открытие видов.
Толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, параноик, – подмигивал:
– Видывал виды!
– Кто бил?
Пятифыфрев:
– Остались – пустые штаны; показали – на труп: в живодерне…
– Труп был?
– А не брюки же… Чьи они?… Воздух в штаны не залезет…
И Тер-Препопанц, это слыша, поежился:
– Глуп Пятифыфрев!…
Раз он Николай Николаевичу про нелепые сплетни скажи; Николай Николаевич слушал протянутой челюстью, вытянутой за тугой воротник, опушенный проседой бородкой, напучивши губы, как для поцелуя; лишь глазки, присевшие в белых, безбровых мясах; стали – тигры малайские; взял котелок, трость; и – в сад; к Пятифыфреву:
– Клади – метлу, бляху, фартук: готов? И – туда, – показал головою на улицу, – там: гулэ ву?
Ему в ноги старик:
– Ни-ни-ни, чтобы я!…
– То-то же…
А больные – подглядывали: за профессором.
– Дурень?
– С большим рассуждением, а – без головы: голова только туловище занимает.
– Она – отрастет: наживная…
Матвей Несотвеев, солдат, – объяснял:
– Стоголовою, брат, головою мозгует он; что ему там – без одной головы, без другой: как губерния, пишет словами!…
Солдаты, Пупричных, толстовец любили больного; его называли: «профессор Иван», «брат Иван»; свой, родной. Значит, – битый!
____________________
Став в пару и парой сходя по ступенькам подъезда, старик одноглазый, распятие венец седины надо лбищем, ловящим морщинами мысль, точно муху, поднявши щетину усов, – точно граблями, ими кидался; и был – вне себя; разрезалку держал он прижатой к груди, как державу. И шел, как на бой:
– В корне взять, человек, – поднимал разрезалку.
– Есть мера вещей!
Рассекал разрезалкою воздух, плеснув пестроперым халатищем, где разбросалося по голубому, пожухлому полю столпление пятен – оранжевых, кубовых, вишневых и терракотовых; пятна, схватясь, уходили в налет бело-серый: в износ.
А с профессором шли: Николай Галзаков и Матвей Несотвеев; все прочие пялили глаз – на изъятие красное, скрытое черной заплатою; глаз же другой, – за троих: огонь выдохнув, сжался, став точкою, искрой; пузырь из плевы – человеческий глаз; так откуда же – огненный фейерверк?
Он говорил – вне себя:
– На носу неприятель: сидит!
Николай Галзаков и Матвей Несотвеев – ему:
– То есть, – в точку: у нас на носу!… Как возьмут Могилев, – нам могила.
– Пустая!…
А в спину им:
– Волосы дыбом!
– Ум дыбом: от этого – волосы дыбом!…
Старик, подняв нос, как осетрий (ноздрею жару выдыхал), на кустарники красные и рогорогие, пяткой своей вереща, в сухолистьях, – шел.
Лучезарно встал сад пурпуреющими, просвещенными кленами: в неизъяснимое небо; боярышник яростный – рой леопардовых пятен; лилово-вишневый – вишневый лист до… золотистого воздуха: яснился, слетом ложась под зеленое золото бледных берез, где оттенками медными ясени нежили глаз цветом спелого персика, перерождаясь в карь гари.
Присев к Пантукану с охапкою листьев сухих, Серафима Сергевна учила разглядывать колеры:
– Ясени – красные; вишня – сквозной перелив; посмотрите-ка, что за листок? Но в два дня облетит: колорит; как бумажка сгорающая, – грязью станет.