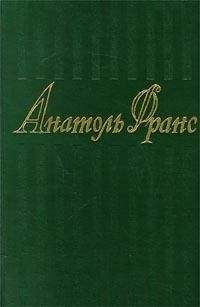Мой добрый учитель слушал эти речи, уныло ссутулившись и понурив голову. Мне показалось, что он уже видит мысленным взором те изменения, какие внесет в его организм пища, над изобретением которой трудится наш хозяин.
— Сударь, — промолвил он наконец, — если не ошибаюсь, вы говорили давеча в харчевне о некоем эликсире, который может заменить всякую иную пищу?
— Говорил, — отозвался г-н д'Астарак, — но питье это пригодно лишь для философов, и потому вы можете заключить, сколь ограничено его применение. Поэтому не стоит о нем и толковать.
Тем временем меня терзал неразрешимый вопрос; я попросил у нашего хозяина позволения изложить мучившие меня мысли, надеясь, что он не замедлит разрешить мои сомнения. Получив его согласие, я заговорил:
— Сударь… неужели саламандры, которые, по вашим словам, столь прекрасны и которые с вашей помощью предстали передо мной во всем их очаровании, неужели они, потребляя солнечные лучи, по несчастью испортили себе зубы на манер пастухов из Валэ, кои лишились этого украшения, питаясь одним молоком? Смею вас уверить, этот вопрос меня весьма тревожит.
— Сын мой, — отвечал г-н д'Астарак, — ваша любознательность мне по душе, и я попытаюсь ее удовлетворить. У саламандр нет зубов, в том смысле, как мы это понимаем. Зато десны их украшены двумя рядами жемчужин редкостной белизны и блеска, что придает их улыбке несказанную прелесть. Запомните к тому же, что жемчуг этот не что иное, как затвердевшие лучи.
Я ответил г-ну д'Астараку, что весьма рад этому обстоятельству. А он продолжал:
— Зубы человека есть знак его жестокости. Когда люди будут питаться как должно, место зубов займут драгоценности, подобные жемчужинам саламандр. И тогда уж никто не поверит, что было время, когда влюбленный мог без ужаса и отвращения видеть, как из-за губок его милой выглядывают собачьи клыки.
После трапезы наш хозяин провел нас в просторную галерею, соседствовавшую с его кабинетом и служившую библиотекой. Нашему взору предстало бесчисленное воинство, или, вернее говоря, вселенский собор выстроившихся на дубовых полках книг in 12°, in 8°, in 4°, in folio в самых разнообразных одеяниях — из телячьей кожи, из сафьяна обычного, из сафьяна турецкого, из пергамента и свиной кожи. Полдюжины окон освещали это безмолвное сборище, расположившееся вдоль высоких стен, из одного конца галереи в другой. Середину залы занимали длинные столы, расступившиеся, чтобы дать место небесным сферам и астрономическим приборам. Г-н д'Астарак любезно предложил каждому из нас выбрать себе место, наиболее удобное для предстоящих трудов.
Но добрый мой наставник, запрокинув голову, пожирал взором и дыханием уст своих все эти тома и даже пустил от удовольствия слюну.
— Клянусь Аполлоном! — воскликнул он. — Что за великолепное собрание! Как ни богата была библиотека господина епископа Сеэзского трудами по церковному праву, она ничто против этой. Даже пребывание в полях Елисейских, воспетых Вергилием[35], было бы мне не столь сладостным. Беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться в наличии здесь редчайших книг и ценнейших коллекций, представленных в таком изобилии, что, полагаю, сударь, с вашей библиотекой не сравнится ни одно частное собрание во Франции и уступает она разве только библиотеке Мазарини и королевской. Осмелюсь даже утверждать, что один лишь вид этой груды латинских и греческих рукописей, сложенных вон в том углу, позволяет в ряду с такими книгохранилищами, как Бодлеенское, Амвросианское, Лауренцианское и Ватиканское, назвать, сударь, и Астаракианское. Скажу не хвастаясь, я уже издали нюхом чую трюфели и книги, и отныне я числю вас, сударь, в одном ряду с Пейреском, Гролье и Каневариусом — князьями книголюбов.
— Куда им до меня, — мягко заметил д'Астарак, — да и библиотека эта неизмеримо более ценна, чем все, которые вы изволили назвать; королевская библиотека в сравнении с моей — лавчонка с книжным хламом, если не принимать в расчет простого количества томов и измаранной бумаги. Прославленные библиотекари Габриэль Ноде и ваш аббат Биньон в сравнении со мной лишь лентяи, пасущие мерзкие стада книг, неразличимых, как овцы в отаре. Что касается бенедиктинцев, не могу не согласиться, люди они старательные, но уж очень придурковаты, и подбор книг в их библиотеках свидетельствует о посредственности хозяев. Моя галерея, сударь, создана по иному образцу. Труды, собранные мною, образуют целое, которое прямым путем приводит к знанию. Библиотека эта — гностическая, ойкуменическая[36] и духовная. Ежели все эти строчки, выведенные на бессчетных листах бумаги и пергамента, вошли бы нерушимым строем в ваш мозг, сударь, вы узнали бы все, все бы могли, стали бы повелителем природы и гончаром вещей; вы держали бы весь мир у себя в щепоти, как держу я между большим и указательным пальцами понюшку табаку.
С этими словами он протянул табакерку доброму моему наставнику.
— Вы весьма любезны, — промолвил аббат Куаньяр. И, по-прежнему обводя восхищенным взглядом эти стены, хранители мудрости, он воскликнул:
— Вот там, меж третьим и четвертым окном, полки несут на себе ценнейший груз. Там встретились восточные рукописи и как бы ведут меж собой беседу. Под одеянием из пурпура и златотканого шелка я приметил с дюжину весьма почтенных особ. Иные на манер византийского императора скрепляют свою мантию рубиновыми застежками. Другие укрыты пластинками из слоновой кости.
— Это труды древнееврейских, арабских и персидских кабалистов, — пояснил г-н д'Астарак. — Вы листаете «Могущественную руку». А рядом вы обнаружите «Накрытый стол», «Верного пастыря», «Обломки храма» и «Свет во тьме». Одно место пустует: здесь стоял бесценный трактат «Медленные воды», но его в данное время изучает Мозаид. Как я вам уже говорил, господа, Мозаид, живущий у меня в доме, старается проникнуть в самые сокровенные тайны, заключенные в писаниях древних евреев, и хотя ему уже перевалило за сотню лет, мой раввин не желает умирать, прежде чем не разберется в смысле кабалистических знаков. Я многим ему обязан и прошу вас, господа, при встречах выказывать ему не меньше почтения, чем выказываю ему я сам.
Но оставим это и перейдем к вопросу, касающемуся вас. Я рассчитываю на вас, господин аббат, как на переписчика и переводчика на латинский язык ценнейших греческих рукописей. Я полностью доверяю вашим знаниям и усердию и отнюдь не сомневаюсь, что этот юноша не замедлит стать вашим надежным помощником.
Затем он повернулся ко мне:
— Да, дитя мое, я возлагаю на вас большие надежды. Они внушены мне прежде всего полученным вами воспитанием, ибо вы были вскормлены, если так можно выразиться, в пламени, у очага, посещаемого саламандрами. А обстоятельство это не маловажное.
С этими словами он взял связку рукописей и положил ее на стол.
— Сей труд, — сказал он, указывая на свиток папируса, — вывезен из Египта. Это творение Зосимы Панополитанского, которое считалось утерянным и которое я самолично обнаружил в гробнице некоего жреца Сераписа[37]. А вот это, — добавил он, указывая на обрывки залоснившихся и размочаленных листов, на которых еле виднелись греческие буквы, выведенные кисточкой, — вот это неслыханные откровения, одним из них мы обязаны персу Сафару, а другим — Иоанну, протоиерею святой Евагии.
Если вы первым долгом займетесь этими рукописями, я буду вам бесконечно признателен. Затем изучим рукописи Синезия, Птолеманского епископа, Олимпиодора и Стефануса, которые я обнаружил в Равенне, в пещере, где они пролежали со времен царствования неуча Феодосия, прозванного Великим[38].
Прежде всего, господа, составьте себе общее представление о ждущем вас обширном труде. В глубине залы, направо от камина, вы найдете грамматики и словари, которые мне удалось собрать; они, возможно, помогут вам. Разрешите пока удалиться, в кабинете меня ждут пять-шесть сильфов. Критон позаботится о том, чтобы у вас ни в чем не было недостатка. Прощайте.
Как только г-н д'Астарак скрылся за дверью, мой добрый наставник подсел к столу, где лежал папирус Зосимы, и, вооружившись лупой, оказавшейся под рукой, приступил к расшифровке текста. Я обратился к нему с вопросом — не слишком ли он удивлен всем услышанным?
Не подымая от рукописи головы, учитель ответил мне:
— Сын мой, я знавал достаточно разных людей и достаточно испытал превратностей судьбы, чтобы чему-либо удивляться. Этот дворянин на первый взгляд может показаться безумцем, и не потому, что он действительно безумец, а скорее потому, что его мысли слишком уж отличны от образа мыслей людей дюжинных. Однако ж если бы мы с большим вниманием прислушивались к тому, что обычно говорится, то обнаружили бы в людских речах еще меньше смысла, чем в разглагольствованиях нашего философа. Предоставленный самому себе разум человеческий, даже наиболее возвышенный, склонен возводить воздушные замки и храмы, и господин д'Астарак, как видно, понаторел в этой воздушной архитектуре. Нет иной истины, кроме бога; не забывай этого, сын мой. Но здесь предо мной въяве лежит «Имуф» — сочинение, принадлежащее перу Зосимы Панополитанского, написанное им для своей сестры Теосебии. Какая честь и какая услада читать эту уникальную рукопись, чудом извлеченную на свет божий! Ей жажду я посвятить свои дневные труды и ночные бдения. От души жалею я, сын мой, невежд, брошенных бездельем в бездну распутства. Что за жалкую жизнь влачат они! Что в сравнении с александрийским папирусом любая женщина? Сравни, прошу тебя, эту благороднейшую библиотеку с кабачком «Малютка Бахус», а беседу, которой тебя удостаивает бесценная рукопись, с ласками, которыми дарят тебе девицы в укромном уголке, и скажи сам, сын мой, где получаем мы истинное наслаждение? Я собеседник муз, завсегдатай безмолвных оргий раздумья, воспетых красноречивым Мадорским ритором, я возношу благодарность господу богу, создавшему меня человеком порядочным.