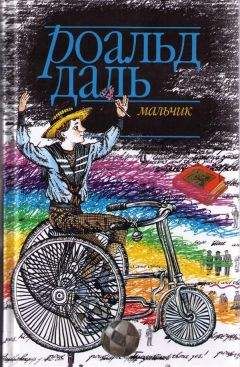Учитель мистер Найчелл на уроке вчера вечером про птичек рассказал нам, как совы едят мышек, они едят всю мышку с кожей и всем и всем, а потом вся кожа и кости идут в такой как бы мешочек на боку совы, и потом она выкидывает это на землю, и эти называются катышки, и он показывал нам картинки некоторые про них, которые он нашел, и про многих всяких разных других птиц.
Поэтому, чтобы пожаловаться родителям, надо было ждать, когда кончится четверть и начнутся каникулы. Если нам казалось, что кормят нас из рук вон скверно, или нам был не по душе какой-нибудь преподаватель, или когда нас наказывали за то, чего мы не делали, мы все равно никогда не отваживались сообщать об этом в своих письмах. Зато часто поступали наоборот. Чтобы ублажить страшного директора, который то и дело заглядывал нам через плечо в тетрадку и, конечно, читал все, что мы сообщали в письмах, мы расписывали школу в самых радужных тонах и очень хвалили учителей.
Этот наш директор был очень даже себе на уме. Он не хотел, чтобы родители подумали, что он занимается цензурой и контролирует наши письма, и потому он не позволял нам исправлять орфографические ошибки в самих письмах.
Если, скажем, я написал: «…мишка боится кошки», — он, заметив это, мог надо мной поиздеваться, но исправить не давал:
— Нет, только не в письме! В рабочей тетради. Письмо пусть так и останется. Не то оно станет еще хуже, чем сейчас. И нечего строить перед своими домашними грамотея, надо сначала научиться писать пограмотнее! Пусть они читают письмо таким, как оно было написано!
Вот таким изощренным образом у ничего не подозревающих родителей создавалось впечатление, что наши письма никогда не читаются, не цензурируются и не исправляются кем бы то ни было из посторонних.
27 января 1928 года
Дорогая мама!
Большое тибе спасибо за пирог и т. п.
Книгу получил позавчера, очень хорошая и выглядит красиво. Как цыплятки? Харашо бы были бы все они живы. Ищо ты говорила, что она никак не…
Весь нижний этаж школы занимали классные комнаты. В бельэтаже располагались спальни. На спальном этаже были владения экономки. Тут вся власть принадлежала ей и имел значение только один-единственный — ее — голос, и даже одиннадцати- и двенадцатилетние мальчики страшились этой громадной людоедки, ибо правила она Железной рукой.
Экономка была крупной белокурой женщиной с массивной грудью. Вряд ли ей было больше двадцати шести, но какая разница — двадцать шесть или восемьдесят шесть, — потому что для нас большой, то есть взрослый, — это всегда взрослый, а все взрослые в этой школе были опасными существами.
Взобравшись на самую верхнюю ступеньку лестницы и ступив на пол спального этажа, мы оказывались во власти экономки, а источником этой власти служила незримая, но наводящая ужас фигура директора, таящаяся внизу, в недрах директорского кабинета. В любое время, то есть всегда, когда бы ей это ни заблагорассудилось, экономка вольна была своей властью послать нас вниз в одной пижаме и спальном халате на доклад к этому безжалостному великану, и какова бы ни была причина, наказание было неизбежно — ведь на то у него имелась трость. Экономка про то ведала и извлекала из своей должности много удовольствия.
Она могла молнией промелькнуть вдоль коридора, и, как раз тогда, когда меньше всего ожидаешь, ее голова и ее огромная грудь вдруг появлялись в дверном проеме спальни.
— Кто это тут губками расшвырялся? — раздавался ее мерзкий и страшный голос. — Никак это вы, Перкинз? Нечего мне врать, Перкинз! Да он еще спорит, он отпирается! Мне прекрасно известно, чья это работа! Быстро, халат на себя и вниз к директору на доклад, мигом!
Очень медленно и с огромным нежеланием маленький Перкинз, проживший на этом свете восемь с половиной лет, облачался в халат, надевал тапочки и исчезал в длинном коридоре, уходящем к лестнице, которая вела в личные владения директора. А экономка, о чем мы все знали, шла следом, стояла у выхода на лестницу и прислушивалась, и когда очень скоро в лестничном колодце гулко раздавалось трах… трах… трах, на ее лице появлялось диковинное выражение. Мне при этих звуках удара трости о человеческое тело всегда казалось, что директор разряжает пистолет в потолок своего кабинета.
Оглядываясь теперь назад, я понимаю: экономка, конечно же, очень не любила маленьких мальчиков. Она никогда не улыбалась нам и не говорила с нами ласково.
Однажды, еще в первый год в школе, я вошел в комнату экономки, чтобы попросить йоду, потому что у меня была ссадина на колене* и я не знал, что положено стучаться, испрашивая разрешения войти. Я открыл дверь, вошел в комнату и обнаружил там экономку в объятиях нашего учителя латыни, мистера Виктора Коррадо.
Они разлетелись в разные стороны, как только я вошел, и их лица сразу же побагровели.
— Как вы посмели войти без стука! — заорала экономка. — Я как раз вынимала соринку, попавшую в глаз мистера Коррадо, а он тут вламывается и разрушает такую тонкую и ответственную операцию!
— Простите, пожалуйста.
— Идите прочь, а через пять минут вернетесь! — закричала Она, и я пулей вылетел из комнаты.
После того как гасили свет, экономка кралась по коридору, как пантера, стараясь услыхать через дверь спальни чей-нибудь шепот, и очень скоро мы убедились, что ее бдительность, слух и прочие способности столь необычайны и поразительны, что для нас лучше и безопаснее соблюдать тишину.
Однажды, после того как погасили свет, отважный мальчик по имени Рагг выскочил на цыпочках из спальни и посыпал линолеум в коридоре сахарным песком. Когда Рагг вернулся и сообщил нам, что весь коридор из конца в конец успешно засахарен, всего меня затрясло от возбуждения. Я лежал во мраке в своей постели и нетерпеливо дожидался, когда же экономка выйдет на охоту. Ничего не происходило. Наверное, подумал я, она у себя, небось, снова вытаскивает соринку из глаза мистера Коррадо.
И вдруг из дальнего конца коридора раздался и отозвался громким эхом оглушительный треск: хрусь! Хрусь-хрусь-хрусь — шагал кто-то. Словно какой-то великан шел по гравию.
Потом мы услыхали вдали взбешенный вопль экономки.
— Кто это сделал? — визжала она. — Кто посмел сделать такое?
Она с хрустом шагала по коридору, распахивая двери всех спален и включая повсюду свет.
Как же она разозлилась, и как же страшна была она в гневе.
— Ну-ка! — орала она, с хрустом шагая туда-сюда по коридору. — Подъем! Все выходите! Мне нужно имя маленького пакостника, который рассыпал сахар! Выходите все, немедленно! Признавайтесь!
— Не признавайся! — шептали мы Раггу. — Мы тебя не выдадим!
Рагг молчал. Я не стал бы его винить за это. Сознайся он, и его наверняка ожидала бы злая и жестокая судьба.
Вскоре снизу был вызван директор. Экономка, у которой все еще шел пар из ноздрей, с плачем и воплями просила у него помощи, и вот вся школа столпилась в длинном коридоре, и мы стояли и стыли в одних пижамах и босиком, пока злодею из злодеев предлагалось сделать шаг вперед.
Но из строя никто не выходил.
Было заметно, что директор тоже очень рассердился. Еще бы! Вечер испортили, отдых перебили. По всему лицу у него пошли красные пятна, а когда он говорил, изо рта вылетали капельки слюны.
— Очень хорошо! — громыхал он. — Все вы принесете ключи от своих сундучков! Все ключи сдадите экономке, и они останутся у нее до конца четверти! А все посылки из дому отныне будут конфисковываться! Я не собираюсь терпеть такое безобразное поведение!
Мы сдали ключи и до самого конца четверти, то есть целых шесть недель, ходили очень голодными.
Но все эти шесть недель Аркл продолжал кормить свою лягушку через дырочку в сундуке. Он и поил ее: у него был старый чайник, и каждый день он вливал в эту дырочку воду из чайника, чтобы она оставалась мокрой и счастливой. Я очень зауважал Аркла за такую заботу о своей лягушке. Хотя самого его голодом морили, он не хотел, чтобы она страдала. С тех пор я и сам всегда стараюсь обходиться со зверюшками по-доброму.
В каждой спальне стояло около двадцати кроватей — детские узенькие койки вдоль всех четырех стен.
Посередине спальни стояли умывальники, и мы там мыли руки и лицо и чистили зубы. В умывальниках всегда была только холодная вода, большие кувшины с которой ставились рядом. Стоило только зайти в спальню, и выходить из нее уже не разрешалось, разве только после объяснения экономке, что заболел.
Под каждой кроватью стоял белый ночной горшок, и прежде чем лечь спать, надо было встать на колени и опорожнить свой мочевой пузырь в этот сосуд. По всей спальне, перед тем как выключат свет, раздавалось дзинь-дзинь — это маленькие мальчики делали «пи-пи» в свои горшки. И как только лег в постель, то уже нельзя вставать до утра. Конечно, на этаже была уборная, но только очень острый приступ поноса оправдывал ее посещение в неурочное время. Кроме того, такое путешествие в уборную автоматически переводило вас в категорию жертв поноса, и по этой причине экономка принудительно вливала вам в горло дозу густой белой жидкости. И потом вы неделю мучались запором.