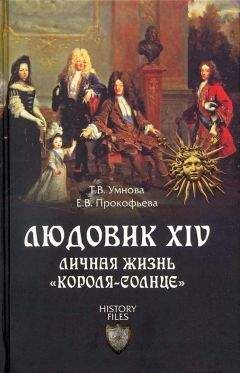— На судне вы должны все время заставлять меня что-нибудь делать. Я буду делать все, все. Я буду взбираться на мачты и крепить снасти, буду стоять на вахте всю ночь — потому что, понимаете, я все равно плохо сплю. И… капитан Альварадо, на судне вы должны притворяться, будто не знаете меня. Притворитесь, будто вы меня ненавидите больше всех, чтобы все время задавать мне работу. Я больше не могу сидеть за столом и переписывать. И не рассказывайте про меня людям… то есть про…
— Я слышал, что ты вошел в горящий дом, Эстебан, и кого-то вытащил.
— Да. И не обжегся, ничего. Вы знаете, — закричал Эстебан, навалившись на стол, — нам не позволено убивать себя, вы же знаете, что не позволено. Это все знают. Но если ты прыгнул в горящий дом, чтобы кого-то спасти, это не значит, что ты убил себя. И если ты стал матадором и тебя бык забодал, это не значит, что ты убил себя. Ты только не должен подставляться быку нарочно. Вы когда-нибудь видели, чтобы животные убивали себя, даже когда у них нет выхода? Они ни за что не прыгнут в реку или еще куда-нибудь, даже если у них нет выхода. Некоторые говорят, что лошадь прыгает в костер. Это правда?
— Нет, не думаю, что это правда.
— И я не думаю, что это правда. У нас была собака. Ну, ладно, я не должен об этом думать. Капитан Альварадо, вы знаете мать Марию дель Пилар?
— Да.
— Я хочу до того, как уеду, сделать ей подарок. Капитан Альварадо, я хочу, чтобы вы мне выдали все жалованье вперед — деньги мне больше нигде не понадобятся, — и я хочу купить ей подарок сейчас. Это подарок не от одного меня. Она была… была… — Тут Эстебан хотел произнести имя брата, но не смог. Вместо этого он продолжал, понизив голос: — У нее было какое-то… у нее была большая потеря, давно. Она мне сама сказала. Я не знаю, кто у нее был, и я хочу ей сделать подарок. Женщины это хуже переносят, чем мы.
Капитан пообещал подыскать с ним утром какую-нибудь вещь. Эстебан еще долго говорил об этом. Наконец, увидев, как он соскользнул под стол, капитан поднялся и вышел на площадь перед трактиром. Он смотрел на линию Анд и на звездные ручьи, вечно льющиеся в небе. И где-то в воздухе витал дух и улыбался ему, и в тысячный раз дух повторял ему серебристым голосом: «Не уезжай надолго. Я буду совсем большая, когда ты вернешься». Затем он вошел в дом, перенес Эстебана в его комнату и долго сидел, глядя на него.
На другое утро, когда Эстебан вышел, капитан уже ждал его внизу у лестницы.
— Мы отправимся, как только ты соберешься, — сказал капитан.
В глазах юноши опять возник странный блеск. Он выпалил:
— Нет, я не еду. Я все же не еду.
— Aie! Эстебан! Ты же обещал мне, что поедешь.
— Это невозможно. Я не могу ехать с вами. — И он стал подниматься обратно.
— Поди сюда на минуту, Эстебан, на одну минуту.
— Я не могу ехать с вами. Я не могу уехать из Перу.
— Я хочу тебе кое-что сказать.
Эстебан спустился с лестницы.
— А как будет с подарком для матери Марии дель Пилар? — спросил капитан вполголоса. Эстебан молчал и смотрел поверх гор. — Неужели ты хочешь лишить ее подарка? Видишь ли… он может много для нее значить.
— Ладно, — пробормотал Эстебан, словно этот довод сильно на него подействовал.
— Так. Кроме того, океан лучше Перу. Ты знаешь Лиму, Куско и дорогу. Тут тебе уже нечего узнавать. Океан — вот что тебе нужно, понимаешь? Кроме того, на борту ты каждую минуту будешь занят. Я позабочусь об этом. Иди собирайся, и поедем.
Эстебан старался прийти к какому-нибудь решению. Раньше всегда решал Мануэль, но даже Мануэль никогда не стоял перед таким важным выбором. Эстебан медленно двинулся наверх. Капитан ждал его, и ждал так долго, что под конец решил подняться до половины лестницы, и прислушался. Сперва было тихо, потом послышались звуки, которые его воображение разгадало сразу. Эстебан отбил штукатурку около балки и привязывал веревку. Капитан, дрожа, стоял на лестнице. «Может, так лучше, — сказал он себе. — Может, не мешать ему. Может, это все, что ему осталось». Затем, услышав новый звук, он ринулся на дверь, ввалился в комнату и подхватил юношу.
— Уходи! — закричал Эстебан. — Оставь меня. Не вмешивайся. — Эстебан ничком упал на пол. — Я один, один, один, — закричал он.
Капитан стоял над ним, его широкое некрасивое лицо было серо и изборождено болью; он заново переживал свои прежние часы. Во всем, что не касалось морской науки, он был самым неуклюжим оратором на свете; но в иные минуты нужно высокое мужество, чтобы говорить банально. Он не был уверен, что лежавший на полу услышит его, но он сказал:
— Мы делаем, что можем. Мы бьемся, Эстебан, сколько есть сил. Но это, понимаешь, ненадолго. Время идет. Ты удивишься, как быстро оно проходит.
Они отправились в Лиму. Когда они достигли моста Людовика Святого, капитан спустился к речке, чтобы присмотреть за переправой каких-то товаров, а Эстебан пошел по мосту и рухнул вместе с ним.
В одном из своих писем (XXIX) маркиза де Монтемайор пытается передать впечатление, которое произвел на нее «наш пожилой Арлекин» дядя Пио. «Все утро, душа моя, я сидела в зелени балкона, вышивая тебе комнатные туфли, — сообщает она дочери. — И так как золотая канитель не занимала меня целиком, я могла наблюдать деятельность сообщества муравьев в стене подле меня. Где-то за перегородкой они терпеливо разрушали мой дом. Каждые три минуты между двух досок появлялся маленький рабочий и сбрасывал на пол крошку дерева. Потом, помахав мне усиками, он деловито исчезал в таинственном пассаже. Тем временем многочисленные его братья и сестры семенили взад и вперед по своему тракту, останавливаясь, чтобы помассировать друг другу голову — или, если спешили с донесением особой важности, сердито отказывались массировать и подвергаться массажу. И я сразу вспомнила дядю Пио. Почему? У кого еще могла я видеть это движение, каким он уловляет проходящего аббата или слугу и шепчет, приложив губы к уху своей жертвы. И правда, еще полдень не настал, а я увидела, как он опять спешит по какому-то таинственному делу. Будучи самой глупой и самой праздной из женщин, я послала Пепиту за кусочком нуги и поместила его на муравьином тракте. Подобным же образом я передала в кафе Писсаро просьбу прислать ко мне дядю Пио, если он объявится там до захода солнца. Я дам ему старую погнутую салатную вилку с бирюзой, а он принесет мне список новой баллады о г-ц-не Ол-в-с, которую у нас все распевают. Дитя мое, ты должна получать все самое лучшее, и получать первой».
И в следующем письме: «Моя дорогая, дядя Пио самый восхитительный мужчина на земле, исключая твоего мужа. Он второй среди самых восхитительных мужчин на земле. Разговор его очарователен. Если бы не его дурная репутация, я взяла бы его в секретари. Он писал бы все мои письма, а потомки вставали бы, отдавая дань моему остроумию. Увы, он так трачен болезнью и дурной компанией, что мне придется оставить его на дне. Он не только похож на муравья, он похож на сальную колоду карт. И я сомневаюсь, что все воды Тихого океана отмоют его до прежней чистоты и благоухания. Но как божественно звучит в его устах испанский и какие изысканные мысли передает! Вот что значит подвизаться в театре и не слышать ничего, кроме Кальдеронова разговора. Увы! Что нарушилось в этом мире, если он так дурно обходится с подобным существом? Глаза его печальны, как у коровы, у которой отняли уже десятого теленка».
Прежде всего вам следует знать, что этот дядя Пио был горничной Периколы. Кроме того, он был ее учителем пения, ее парикмахером, ее массажистом, ее лектрисой, ее посыльным, ее банкиром и — добавляла молва — ее отцом. Например, он разучивал с ней ее роли. По городу ходил слух, будто Камила умеет читать и писать. Такая похвала была незаслуженной; дядя Пио и писал за нее, и читал. В разгар сезона труппа играла две-три новые пьесы в неделю, и, поскольку в каждой имелась большая и цветистая роль для Периколы, сама задача выучить роль была отнюдь не пустячной.
За пятьдесят лет Перу из окраинной страны преобразилась в страну возрождения. Интерес к музыке и театру был необычаен. Праздники справляла Лима, слушая утром мессу Томаса Луиса да Витториа, а вечером — искрящуюся поэзию Кальдерона. Правда, была у жителей Лимы слабость вставлять пошлые песенки в самые изящные комедии и сдабривать слезливыми украшениями самую строгую музыку; зато по крайней мере они никогда не предавались скуке вымученного благоговения. Если им не нравилась героическая комедия, они без колебания оставались дома; если они были глухи к полифонии, ничто не помешало бы им пойти к более ранней службе. Когда архиепископ вернулся из короткой поездки в Испанию, вся Лима спрашивала: «Что он привез?» Наконец разнеслась весть, что он вернулся с томами месс и мотетов Палестрины, Моралеса и Витториа и тридцатью пятью пьесами Тирсо де Молина, Руиса де Аларкона и Морето. В его честь устроили празднество. Школа певчих и зеленый зал Комедии были завалены дареными овощами и пшеницей. Все общество жаждало напитать посланцев этой красоты.