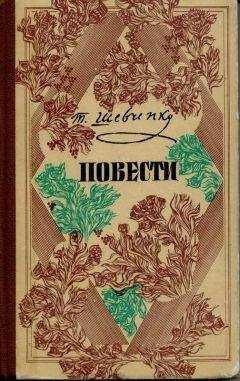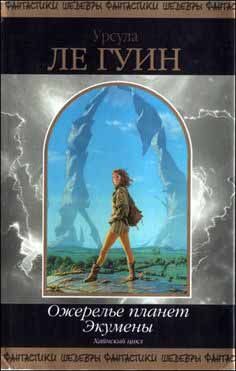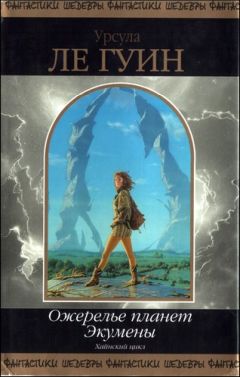Через несколько минут вошел Яким в хату, говоря:
— Хоть кол на голове теши, не хочет войти в хату, да й только!
— Кто это не идет в хату? — спросил охотник.
— Да наша наймичка, такая глупая, как будто людей отродяся не видала.
— А не йдет, так и пускай себе не йдет, — сказала Марта, — мы и без нее управимся.
Приготовивши все для полдника, она вышла из хаты.
— Прошу вашои милости, садитеся за стол та полуднуйте, что бог дал! — сказал Яким, садяся на ослоне.
— Ах да, я и забыл. Ведь у меня есть роменская кизлярка! — И он вынул из охотничьей сумы бутылку с водкой и поставил на столе.
— Не извольте трудиться, ваша честь. У нас, правда, есть и своя, да мы с старою мало употребляем, то и добрых людей иногда забываем потчевать.
И он хотел встать, но охотник удержал его:
— Постой! постой, дядя! Ведь у вас не такая, у меня ведь настоящая кизлярка. — И он вынул серебряную чарку из сумы.
— Не знаю, не случалося пивать такой. А всякие вина перепробовал на своем веку.
— Так вот попробуй, дядя, — сказал охотник, подавая старику чарку.
— Попробуем, что там за кизлярка! — сказал он, принимая чарку и крестясь. — Господы благословы!
Выпивши водку, он немного помолчал и проговорил:
— Нечего сказать, хорошая водка. А дорога?
— По цалковому бутылка.
— О, цур же ей, когда так! У нас на карбованець видро купыш.
— Купишь, да не этакой!
— Э, все одинаково, лишь бы назавтра голова болела.
И они молча принялися закусывать колбасу и холодное свиное сало, до которого, впрочем, охотник не прикасался. Невежа не знал, что холодное свиное сало лучше всякого патефруа. А впрочем, о вкусах спорить нельзя.
Охотник кстати привел поговорку, что по одной не закусывают. Потом другую, что без тройцы дом не строится. Потом еще и еще поговорку, а за поговоркой, разумеется, наливалася и выпивалася чарка, так что не прошло часа, а в бутылке уже было пусто, как у пьяницы в кармане.
Они стали говорить громче и быстрее. Охотник наговорил Якиму много любезностей, почти великосветских, и между прочим вот какую:
— А ты мне, дядя, с первого разу понравился. Помнишь?
— Помню, — отвечал Яким. — А вы мне так попросту совсем тогда не понравились. А теперь так вижу, что ты человек хороший.
— Вот то-то и есть! Ты раскуси-ка меня, дядя, так не то увидишь!
— Нет, я кусать тебя не буду, а знаёмыться милости просимо.
— Ведь я, правду тебе сказать, для тебя и в ваше село на квартиру перешел, чтобы только к тебе в гости ездить.
— Благодаримо, благодаримо! Марто! — крикнул он, вставая со скамьи. — Пряжи яешню с колбасою! Давай видро вы- стоялки. Не знаешь, старая баба, какой у нас человек сидит!
— Полно, полно, ничего не надо, дядя! Я сейчас уеду.
— Уедешь, только не сейчас, я тебе еще покажу нашего Марка.
— А кто это такой ваш Марко?
— А наша дытына. Разве ты и не знаешь, что у нас и сын есть? — И он пошел к двери, бормоча: — Вот я вам дам, вражи бабы! — И он вышел за двери.
Через минуту он внес на руках в хату плачущего Марка, а за ним вошла и Марта.
— Посмотри! посмотри! — говорил он. — Какое нам добро господь на старости послал! На, забавляй его по-своему, — и он передал Марка Марте.
— Иды, иды, гайдамака, сякий сыну такий! — И он рассказал охотнику историю успокоившегося Марка.
Охотник рассеяно выслушал рассказ Якима, сказал:
— А кто же его настоящая мать?
— А бог ее знает! Уповать надо, покрытка какая-нибудь, бесталанница!
— У тебя все покрытки! А может, и честная женщина, только бедная, — сказала Марта.
— А может, и честная. Бог ее знает. Куда же вы? — сказал он, обращаясь к охотнику. — Погостите, бога ради, вы у нас и то редко бываете. Стара! Выстоялки! Яешни!
— Благодарю тебя, дядя. Буду часто бывать, только сегодня не держи: не могу, дома есть дело.
— А коли дело, так и дело. Как волите, сами лучше знаете. А хорошо б попробовать еще нашои выстоялки.
— Нет, благодарю. В другой раз. Прощай, дядя. — И он вышел из хаты.
Яким, проводивши за ворота дорогого гостя и в сотый раз повторив просьбу не минать их хутора, возвращался в хату, бормоча про себя:
— Притча во языцех! Вот тебе и москаль! Вот тебе и улан! Да дай бог, чтоб и хрещеные люди такие рослы на божьей земле. Молодец, нечего сказать. И где он такую дорогую водку покупает? Говорит, в Ромнах. Надо будет поехать в Ромен та достать такой водки, чтоб не стыдно было, когда в другой раз заедет. Так, я думаю, не достанешь. Паны всю выпили. Ну, уж за этими панами нашему брату просто некуда деваться. А что ж, ведь и он тоже пан, хоть и московский, а человек хороший, очень хороший человек. Хоть бы и у нас таких панив наснять. А что, на Москве тоже растут паны?
И, задавши себе такой хитрый вопрос, Яким, шатаясь, вошел в хату.
Лукия, перестилая ввечеру постельку Марку, нашла под подушкою червонец и сейчас догадалась, что это было дело его нежного папаши, взяла его в руки и не знала, что с ним делать. Подумавши немного, она опустила его в пазуху и молча продолжала свое дело.
Охотник сдержал свое слово: он каждую неделю исправно два и три раза посещал хутор, только без всякого со стороны сердечной поощрения. Поил Якима кизляркою, а Яким его потчевал десятилетнею выстоялкою. Тем и кончалися его визиты. Лукия всегда убегала из хаты, когда его только завидит, а он был до того скромен или лукав, что никогда ни слова не сказал старикам про их наймичку. Как будто он ее никогда и не видал.
Любовался всегда своим Марком, как совершенно для него посторонний, привозил ему всегда пряники, а иногда и другие гостинцы, чем и успел приласкать к себе дитя. Так что, бывало, когда он входил в хату, то оно бежало к нему навстречу, протягивая ручонки, и кричало:
— Да-да.
В великом посту, когда старики говели и с пятницы на субботу осталися ночевать у отца Нила, чтобы не проспать заутрени, корнет перед вечером приехал на хутор. Он знал, что старики в селе и ночевать не будут дома. Оставил с денщиком своего коня, а сам прокрался, как вор, на двор и потом в хату.
Лукия в это время играла с Марком и, когда увидела его в хате, то вскрикнула и чуть ребенка из рук не уронила.
Они молча остановились друг перед другом. Марко протянул к нему ручонки и сказал свое обычное «да-да». Но «да-да» не отвечал ни слова на привет Марка. А Лукия схватила его ручонки и прижала к себе.
Долго продолжалося молчание. Наконец он заговорил:
— Скажи, Лукеюшка, за что ты меня не любишь, зачем ты от меня прячешься всякий раз, когда я сюда приеду?
Лукия молчала.
— Я мучуся! Я страдаю! Я умираю без тебя, цветочек мой прекрасный, мой розан ненаглядный. Проговори хоть одно слово, хоть взгляни на меня!
Она взглянула на него, но не проговорила ни слова.
— За что я тебе вдруг немилым стал? Вспомни ты темный сад и те короткие сладкие минуты, что мы проводили с тобой.
Она опять взглянула на него, и из прекрасных ее карых очей покатилися крупные слезы.
— Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.
Она плюнула ему в глаза.
— Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.
Лукия с омерзением отворотилась от него, подошла к двери и, отворивши дверь, громко крикнула:
— Катре!
— Не зови никого, побудь со мною наедине, я тебе всю правду, всю истину скажу. И ежели есть у тебя хоть искра чувства, ты извинишь меня!
Между тем вошла в хату, со скалкою в руках, дюжая Катря.
— Катре, голубочко, побудь с этим паном, а я вынесу Марка в другую хату, а то он его боится и плачет.
И с этим словом она вышла из хаты. Через минуту она возвратилась, держа в руке червонец. Подошла к нежному своему обожателю и, подавая ему червонец, сказала:
— Марко и без твоих червонцев богат, возьми.
Он отодвинул ее руку. Она бросила ему червонец на пол и вышла их хаты.
Он поднял червонец, повертел его в руке, как бы раздумывая, что с ним делать.
— Вот тебе, голубушка, — сказал он Катре, подавая ей червонец. — Только ты пособи мне ее уломать.
Катря, взявши червонец, проговорила:
— Какой хорошенький дукачик! Что ж это у него дирочки нету? Как же его носить? Вот теперь если б доброе намисто.
— И монисто куплю, только ты уломай ее.
— Добре, уломаю.
И он вышел из хаты.
— За что это он ломать просил? — спросила Катря у входящей Лукии.
— Не знаю, — ответила она.
— Посмотри, какой хорошенький он мне дукачик подарил.
Лукия взглянула на червонец и не сказала ни слова. Катря
вышла, а Лукия осталася в светлице и всю ночь проплакала.
В субботу после вечерни старики возвратилися домой и не могли нахвалиться гостеприимством своего знакомого охотника. Он их после обеда от отца Нила зазвал к себе на квартиру, и чем он их не угощал? И чаем, и сахаром, и всякою всячиною, так что всего и не упомнишь. Одно только Марте не понравилось, что у него везде табак: и на столе табак, и на окнах табак, и на лаве табак — везде табак. Она думала, что у него и чай из табаку, а потому-то съела кусочек сахару, другой спрятала для Марка, а до чаю и рукой не прикоснулась. Еще две вещи ей сильно не понравились: это собака на постели и денщик, такой старый, оборванный, грязный, на ру- как грязи, что и вихтем не отмоешь. И еще чудно: он уже сывый, а он ругает и все кричит: «Эй, малый!» А может, это по их московскому звычаю так и следует, бог там их знает?