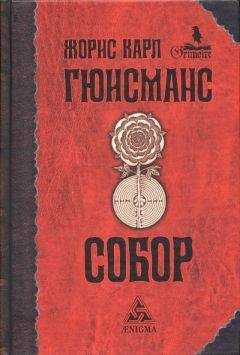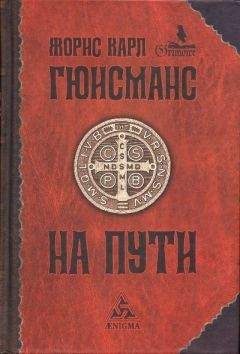Что касается собственно шартрского капитула, он был основан в VI столетии святым Любеном. Тогда он насчитывал семьдесят два каноника; потом их становилось больше: перед революцией каноников было семьдесят шесть, в том числе семнадцать должностных лиц: старейшина, вице-старейшина, регент, вице-регент, великий архидиакон Шартрский, архидиаконы Бос-ан-Дюнуа, Дрё, Пенсере, Вандома и Блуа, казначей, канцлер, прево Нормандии, прево Мезанже, прево Энгре, прево Анвера и каноник капитула. Эти пастыри, по большей части благородного происхождения и богатые, были питомником епископата и владели всеми домами вокруг собора; они жили сами по себе своим общежитием, занимались историей, богословием, каноническим правом… А ныне все в полном упадке…
Аббат умолк, покачал головой и продолжил:
— Что ж, вернусь к тому, с чего начал. Естественно, мне было не по себе от недружелюбия, которое мне выказали, как только я приехал. Как я уже говорил вам, мне пришлось умирить много предубеждений. Кажется, мне это удалось. И еще я благодарю Бога, что послал мне чудесного помощника — соборного викария; он мужественно защищал меня пред своими собратьями. Аббат Плом — вы знакомы?
— Нет.
— Это умнейший, образованнейший человек, почитающий мистику и превосходно знающий собор; он от него без ума, изучил в нем каждый уголок.
— Вот как? Тогда этот викарий мне очень любопытен. Погодите, быть может, он в числе тех, кого я уже приметил? Как он выглядит?
— Маленького роста, молодой, бледный, немножко рябой, волосы расчесаны на пробор; он носит очки, приметные по такой черте: дужка на носу у них в форме коромысла или, лучше сказать, похожа на ноги всадника.
— Знаю, знаю такого!
Оставшись один, Дюрталь неспешно думал о викарии; он часто видел его и в храме, и на площади.
Конечно, размышлял он, судя по внешности, всегда рискуешь ошибиться, но до чего же эта избитая истина верна, когда имеешь дело с духовными лицами!
Этот аббат Плом похож на испуганного дьячка; вечно мечтает невесть о каких небесных мигдалах; такой неуклюжий, такой растяпистый… А он, оказывается, ученый, любит мистику и влюблен в собор!
Нет, священника никогда нельзя оценивать по лицу. Теперь мне предопределено жить в этом кругу; значит, надлежит отбросить все предвзятые мнения; сначала местных пастырей надо узнать, а уж потом позволять себе суждения про них.
На самом деле, размышлял про себя Дюрталь, задумчиво сидя на маленькой площади, никто не знает точно, откуда произошла форма готических соборов. Тщетно археологи с архитекторами перебирали одну гипотезу, одну систему за другой; они согласны, что существовало восточное влияние на романский стиль, и это действительно можно доказать. С тем, что романское искусство восходит к латинскому и византийскому, с тем, что оно, по формулировке Кишра, «стиль, который перестал быть римским, хотя удержал в себе много римского, и еще не стал готическим, хотя в нем уже есть нечто готическое», я соглашусь. Кроме того, если изучить капители, зарегистрировать их контуры и рисунок, можно заметить, что они гораздо больше похожи на ассирийские и персидские, нежели на римские, византийские и готические; но с утверждениями относительно предков самого стрельчатого стиля дело обстоит совсем иначе. Одни уверяют, что остроконечная арка существовала в Египте, Сирии и Персии, другие рассматривают ее как ответвление сарацинского и арабского искусства, и при том, несомненно, нет ничего менее доказанного.
Потом надо сразу сказать: стрельчатая или, вернее, остроконечная арка, которую почему-то считают основным признаком этой архитектурной эры, совсем таковым не является, как очень четко объяснил Кишра, а вслед за ним Лекуа де ла Марш. В этом пункте Школа Хартий расправилась с редутами архитекторов и уничтожила общие места старых ученых шишек. Впрочем, доказательств тому, что стрельчатая арка при строительстве романских храмов систематически употреблялась наряду с полукруглым сводом, множество: в соборах Авиньона, Фрежюса, Арльской Божьей Матери, церквах Сен-Фрон в Перигё, Сен-Мартен д’Эне в Лиони, Сен-Мартен-де-Шан в Париже, Сент-Этьен в Бове, в Леманском соборе, в Бургундии: в Везле, Боне, церкви Сен-Филибер в Дижоне, — в Шарите-Сюр-Луар, в Сен-Ладр в Отёне, в большинстве базилик клюнийской монашеской школы.
Но все это не говорит ровным счетом ничего о происхождении готики: оно по-прежнему темно, быть может, потому, что слишком ясно. Не будем насмехаться над теорией, видящей в этом вопросе чисто материальную, техническую проблему устойчивости и сопротивления материала: дескать, в один прекрасный день монахи обнаружили, что своды их церквей будут намного прочнее, если выкладывать их не полукругом, а в форме стрельчатой митры; но мне сдается, что романтическая теория, идея Шатобриана, над которой много издевались, на самом деле самая естественная, очевидная и справедливая.
Для меня почти несомненно, продолжал свою мысль Дюрталь, что образ храмовых нефов и стрельчатых сводов, о которых столько спорят, человек обрел в лесу. Самый поразительный собор, построенный самой природой, со множеством ломаных арок, находится в Жюмьеже. Там, возле великолепных руин аббатства, где остались нетронутыми две башни, а раскрытый сверху корабль, вымощенный цветами, переходит в листвяной клирос и абсиду деревьев, тянутся три огромные прямые аллеи вековых стволов. Одна, средняя, очень широка, две другие, по бокам, поуже; они представляют собой совершенно точный образ главного нефа и двух боковых, опирающихся на черные столбы и перекрытых купами листьев. Сходящиеся ветви ясно рисуют стрельчатые арки, а толстые стволы, столь же ясно, — колонны, из которых они вырастают. Надо видеть это зимой, когда арки запорошены снегом, стволы стоят белые, как березы, и тогда поймешь первоначальную идею, закваску искусства, на которой в душе архитекторов взошли такие же широкие просеки; они стали постепенно утончать романский стиль и наконец полностью заменили круглую арку свода остроконечной.
И в любом парке, если только он не намного моложе леса в Жюмьеже, с тою же точностью воспроизводятся те же контуры; но вот глубокой науки символов, безоглядной и кроткой мистики верующих людей, возводивших соборы, природа дать не могла. Без людей задуманные природой неустроенные храмы были бы бездушными набросками, рудиментами, эмбрионами настоящей базилики, меняющимися вслед за временами дня и года, живыми, но недвижными; их одушевлял бы только ревущий орган ветров; подвижная кровля ветвей становилась бы другой при малейшем дуновении, была бы зыбкой, по большей части немой, беспрекословной рабой бурь, покорной служанкой дождей; ее бы освещало только солнце, процеженное через ромбики и сердечки листьев, как через зеленую сетчатую кольчужку. Человек своим гением собрал этот рассеянный свет, сконцентрировал его в розетках и мечевидных окнах, направил в аллеи высоких белых стволов, и его витражи даже в самые пасмурные дни сверкали, улавливая все лучи, вплоть до последних закатных, одевали наичудеснейшим сиянием Христа и Матерь Его, переносили на землю единственное одеяние, приличное прославленным телам, — переливчатые пламенеющие мантии!
Как, подумаешь, нечеловечны, поистине божественны эти соборы!
В наших краях они ушли от романской крипты, от свода, осевшего, как душа, под грузом смиренья и страха, склонившегося перед безмерным Величеством, Которому и хвалу петь едва смели, и стали свободными; они нарушили правильную форму полукруглого свода, вытянули его в миндалевидный овал, взорвались фонтаном, подняли кровли, выпустили вверх нефы, заговорили тысячами скульптур вокруг клироса, обратили к небу, как молитвы, безумные выплески своих шпилей! Они стали символом задушевного разговора с Богом, стали более доверчивыми, более непринужденными, более дерзновенными с Ним.
Вырвавшись из унылого костяка, утончаясь, все они начали улыбаться.
Дюрталь перевел дух и продолжал:
— Романский стиль, как я себе представляю, родился уже старцем. По крайней мере, он так навсегда и остался боязливым и сумрачным.
Даже достигая великолепного размаха, как, например, в Жюмьеже с его огромной двойной аркой, гигантским порталом, открытым небу, он все равно печален. Ведь полукруглый свод склонен к земле, у него нет острия, возносящего вверх готическую арку…
О как плачут и жалобно шепчут его толстые стены, его закопченные потолки, его низкие арки, тяжко давящие толстые столбы, его почти немые каменные блоки, его скупые украшения, в немногих словах доносящие свои символы! Романский стиль — траппистская обитель архитектуры; сразу видно, как в нем находят приют ордена сурового устава, сумрачные монастыри, монахи, склонившиеся во прахе и, опустив головы, скорбно поющие покаянные псалмы. В его массивных подземельях — страх греха, но и страх Божий, страх гнева, утоленного лишь пришествием Сына. По наследству от Азии романский стиль обрел нечто от эры до Рождества Христова; в нем молятся не столько любящему Младенцу и милосердной Матери, сколько неумолимому Адонаи. В храме готическом меньше страха, он больше захвачен любовью к двум другим Лицам Троицы и к Приснодеве; в готических строениях селятся менее суровые, более артистические ордена; в нем пораженные грехом восстают, опущенные очи поднимаются горе, замогильные голоса превращаются в ангельские.