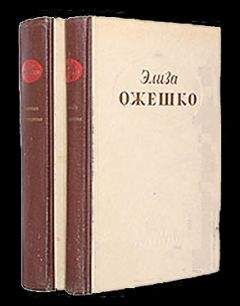— А ты видела когда-нибудь корсет? — засмеялась Франка. Ее немного знобило, хотя в избе было тепло. Такие приступы лихорадки бывали у нее вот уже несколько лет, особенно по утрам, когда она вставала с постели. Кожа ее принимала нездоровый желтый оттенок, губы бледнели.
Зевая и кутаясь в платок, она подсела к огню, а Марцеле предложила сесть на лавку. Льстивые похвалы, которых старуха не жалела, расположили к ней Франку. Марцеля села у стены против огня и, опираясь руками на свою палку, с широкой улыбкой, обнажавшей беззубые десны, заговорила:
— Спрашиваешь, видела ли я корсет? О, господи! Чего только я за свою жизнь не видала, каких только богатств и красот! Все видела, все слышала и все знаю… Ведь я в свои молодые годы в усадьбах панских прослужила… А теперь вот уж лет пятнадцать как с клюкой по миру хожу…
У Франки заблестели глаза. Она с живостью повернулась к нищенке и воскликнула:
— В усадьбах служила? А я-то думала, что ты такая же простая крестьянка, как все тут…
— Крестьянка-то я крестьянка, — тряся головой, сказала Марцеля. — Да не такая темная. Родом я из этой же деревни, но меня еще девчонкой господа к себе взяли, и я у них в имении всю свою молодость прослужила. А когда у них оставаться мне больше нельзя было, я к другим господам перешла… да вот уж лет пятнадцать как до нищенской сумы докатилась. Оттого-то я сразу и смекнула, кто ты такая… Другим оно невдомек, а я догадалась…
— Ну кто же я, по-твоему? — со смехом спросила Франка.
— Паненка! Паненка ты, нежная такая да красивая, как царевна… Когда привел он тебя к Козлюкам в хату, я тут и подумала: «Господи, твоя воля, этакий серый мужик, и захотелось ему царевны!» Чудно мне, право, что ты за такого замуж пошла!
На улыбающееся лицо Франки вдруг словно тучка набежала.
— Сама не знаю, как это вышло. Видно, такая уж моя судьба. Никак я не думала, что за мужика выйду и среди мужиков буду жить. Ведь я из какой семьи! У дедушки два дома своих было, отец в конторе служил… А брат двоюродный у меня адвокат в большом городе… И богатый, ох какой богатый!
Она села рядом со старухой и стала рассказывать о своей образованной матери, о богатом родственнике-адвокате, о том, как весело ей жилось в городе и какие у нее были кавалеры. Марцеля слушала с восторгом, качая головой и ахая от удивления.
Поболтав так с четверть часа, Франка вскочила.
— Знаешь что, Марцелька, поставь самовар, напьемся с тобой чаю.
У Павла, как и у Филиппа и у самых зажиточных людей в деревне, имелся жестяной самовар и в доме всегда было немного сахару и чаю. По просьбе жены он сделал теперь изрядный запас того и другого. Франка к еде была равнодушна, ела очень мало и что придется. Случалось — особенно когда она бывала чем-нибудь расстроена или очень занята, — она за целый день крошки в рот не брала. Но без чаю она жить не могла. И без конфет тоже: их она, когда жила в городе, всегда покупала себе сама или получала от знакомых мужчин, — так она объяснила Павлу. Других подарков ей никто не дарил, а конфеты носили, и она их принимала, потому что конфеты даже пани всегда принимают от панов.
Никогда она не просила у мужа нарядов, довольствовалась той пищей, которую все ели в деревне, просила только чаю да конфет. Вот и сегодня, когда Павел собрался в местечко, она, обняв его, попросила:
— Привези конфет, миленький, золотой мой! Привезешь?
Радостно блеснув глазами из-под опухших век, Марцеля живо принялась ставить самовар и, хлопоча, ходила по комнате даже без палки. На дворе лил дождь, а в хате две женщины — одна в лохмотьях, другая в теплом платке на плечах, сидя под окном, попивали чай из зеленоватых стаканов, размешивая сахар щепочками. Марцеля при этом жадно уписывала ржаной хлеб, а Франка только раза два откусила кусочек. Старуха была очень довольна тем, что приняли ее лучше, чем она могла ожидать, и это сулило ей некоторые блага в будущем. Франка, напротив, становилась все мрачнее. Казалось, со дна прошлого, о котором она сейчас вспоминала, поднималась какая-то муть и, как вино, ударяла в голову. На ее щеках выступил багровый румянец, глаза наполнились слезами.
— Вот до чего дошла! Мужичкой стала, живая в могилу легла. Теперь эта деревня заслонила мне весь белый свет, и другой жизни уже не будет.
Она ломала руки, утирала мокрые глаза.
— Ну, не плачь! Чего там! — утешала ее старая нищенка. — Муж у тебя хороший, добрый, стало быть, не пропадешь. А ласков он с тобой, а?
И, нагнувшись к уху Франки, с гадкой усмешкой спросила у нее что-то.
Франка хихикнула и отвела глаза.
— Ой-ой! Еще как! — шепнула она в ответ. — Как будто он совсем молодой хлопец, как будто ему и двадцати нет!
И она, в свою очередь, принялась что-то нашептывать на ухо старухе, тихонько посмеиваясь и блестя белыми зубами.
В этот вечер Павел, вернувшись из города, достал из кармана пакетик слипшихся конфет. Они, верно, с год пролежали на лотке еврейки и стоили несколько копеек. Но Франка, не привередничая, почти вырвала их из рук мужа и жадно принялась грызть. Насладившись ими вволю, она несколько карамелек отнесла Козлюкам, одну насильно сунула в рот Данилке, остальные отдала ребятишкам.
Козлюки относились к Франке безразлично. Она не раз удивляла их, но не вызывала к себе ни вражды, ни особого расположения. Вреда им от нее никакого не было, пользы тоже, а у Филиппа и Ульяны было так много дела — у него работа в поле и на пароме, у нее на плечах хозяйство и дети, — что им недосуг было следить за женой Павла, выспрашивать ее и даже думать о ней. Они рассуждали так: брат по своей воле женился на ней. Окажется она доброй женой — его счастье, окажется злой — пусть на себя пеняет. Им-то что за дело? Впрочем, они были с ней приветливы, иногда заговаривали, вежливо приглашали к себе в хату. В начале осени Филипп вынес из сарая кросна, на которых ткала когда-то первая жена Павла, поставил их у него в хате и целый час чинил, так как они оказались в неисправности. А в воскресенье Ульяна съездила в город, купила на деньги брата льна и цветных ниток и на другой же день приладила кудель к прялке, а на кросна натянула основу. Она смеялась до слез и утирала глаза рукавом, наблюдая, как неловко и неумело Франка берется за работу. Ульяна впервые в жизни видела женщину, которая не умеет прясть и ткать. Она никак не думала, что бывают такие на свете. Она терпеливо и старательно учила Франку, которая сначала с увлечением принялась за работу и прясть научилась быстро, но, когда дело дошло до тканья, приуныла и потеряла всякую охоту к этому занятию.
— Трудно! — буркнула она сердито.
— Ничего, привыкнешь! — уговаривала ее Ульяна.
Нужно было непрерывно придавливать нитки передней частью станка, а ногами нажимать на педаль, — и это в самом деле сильно утомляло Франку; через какие-нибудь четверть часа крупные капли пота выступали у нее на лбу. По всей вероятности, она, как и предсказывала Ульяна, постепенно привыкла бы к этой работе и все легче справлялась бы с ней, но привыкать к тому, что ей неприятно, было не в характере Франки. «Если работа нравится — ладно. Если нет — к черту ее!» — вот как она рассуждала. После нескольких проб, во время которых Ульяна уже не смеялась, а хмурилась и с недовольным, скучающим видом смотрела на нее, Франка вскочила из-за станка и, размахивая руками, крикнула:
— Не хочу! Не буду! Руки у меня болят и ноги совсем замлели! На кой черт мне это тканье! Довольно уж я намыкалась и наработалась за свою жизнь, когда нужда заставляла. А теперь нужды нет — и не стану я за этими кроснами сидеть, силы свои надрывать!
— Как хочешь, — равнодушно сказала Ульяна и, простясь с ней кивком головы, вышла из хаты.
В тот же день к вечеру, когда Ульяна шла по воду, она у спуска встретила брата и, остановившись перед ним с коромыслом на плече, сказала:
— А Франка твоя ткать не хочет!
— Ну и пусть не ткет! — спокойно отозвался Павел.
Но бывшая тут же Авдотья, — она, несмотря на свои шестьдесят лет, чтобы помочь невестке, ходила вниз к реке по воду, — прислушивалась к короткому разговору брата и сестры с большим интересом, она даже голову склонила набок и поставила ведро наземь. Когда Павел отошел, она окликнула его и с таинственным видом поманила к себе пальцем. Ее черные глазки на румяном лице сияли от удовольствия — она очень любила вмешиваться в чужие дела.
— Слушай-ка, Павлюк, — начала она, приложив палец к увядшим губам, — что-то ты уж слишком жене волю даешь! Гляди, как бы беды не вышло!
Авдотья уже раньше слышала от Марцели кое-что о привычках и образе жизни Франки. И то, что она поздно встает, что пьет чай и ест конфеты, безмерно удивляло и возмущало старую крестьянку.
Серьезно глядя на нее, Павел сказал:
— Не беспокойтесь, кума, я знаю, что делаю. Не затем я ее от маеты спасал, чтобы ей опять пришлось маяться, а затем, чтобы ей хорошо было жить. Когда у человека жизнь плохая, он и сам становится плохим, а когда ему хорошо — и он хорош. Отчего хорошим не быть, когда и злиться не на что и грешить нет нужды? Так-то!