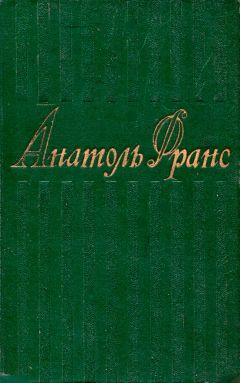Я следовал совету старого монаха-мистика, но следовал вопреки своей воле. Мне бы хотелось, встречая женщин, не разлучаться с ними так быстро.
Из приятельниц моей матери меня особенно влекло к одной, с которой мне хотелось бы побеседовать подольше. Это была вдова Альфонса Ганса, пианиста, умершего молодым в расцвете славы. Ее звали Алисой. Я не мог бы определить, какие у нее волосы, глаза, зубы. Как можно определить то, что трепещет, сияет, искрится, ослепляет?.. Но мне казалось, что она прекраснее мечты и божественно хороша. Матушка утверждала, что черты лица у г-жи Ганс самые обыкновенные, если рассматривать их в отдельности. Всякий раз, когда матушка высказывала такое мнение, отец недоверчиво покачивал головой. Должно быть, мой милый отец поступал, как и я: он не рассматривал в отдельности черты лица г-жи Ганс. И каковы бы они ни были в отдельности, в целом они были прекрасны. Не слушайте матушку, уверяю вас, что г-жа Ганс была прекрасна. Г-жа Ганс влекла меня: красота сладостна; г-жа Ганс пугала меня: красота страшна!
Однажды вечером, когда у нас собрались друзья моего отца, Алиса Ганс вошла в гостиную с таким приветливым видом, что я приободрился. В мужском обществе она иногда держала себя словно добрая дама, которая на прогулке бросает птичкам крошки, чтобы они поклевали. Потом вдруг принимала надменный вид; лицо ее делалось холодным, и она медленно, будто нехотя, обмахивалась веером. Я не понимал почему. Теперь я прекрасно понимаю: г-жа Ганс была кокеткой, вот и все!
Итак, я уже сказал, что в этот вечер, войдя в гостиную, она бросила всем, даже мне, самому смиренному из всех, крохи своих улыбок. Я, не отрываясь, глядел на нее, и мне почудилось, что я уловил в ее прекрасных глазах какую-то грусть; я был потрясен. Дело в том, что я был добрым малым. Г-жу Ганс попросили что-нибудь сыграть. Она сыграла ноктюрн Шопена. Я не слышал ничего более прекрасного. Мне чудилось, будто Алиса с нежной лаской чуть касается моих ушей своими пальцами, длинными белыми пальцами, с которых она сняла кольца.
Когда она кончила играть, я инстинктивно, не помышляя о том, что делаю, подошел к ней и, проводив ее на место, сел около. Почувствовав благоухание ее тела, я закрыл глаза. Она спросила, люблю ли я музыку. От звука ее голоса я затрепетал. Я открыл глаза и увидел, что она глядит на меня; этот взгляд погубил меня.
— Да, сударь, — в смятении ответил я…
Раз земля не разверзлась и не поглотила меня в этот миг, значит, природа не внемлет даже самым пламенным мольбам человека.
Я не спал всю ночь, обзывал себя скотиной, идиотом и угощал пощечинами. Утром, после долгих размышлений, я все еще не мог примириться с самим собой. Я повторял: «Желать сказать женщине, что она прекрасна, что она поразительно прекрасна, что она умеет извлекать из рояля вздохи, стоны, подлинные рыдания, и вместо этого сказать всего два слова: „Да, сударь“. Значит, я совершенно утратил и разум и способность выражать свои мысли. Пьер Нозьер, ты болван. Скройся с глаз людских!»
Но — увы! — я даже не мог скрыться. Мне надо было появляться в классе, за столом, на прогулке. Я старался втянуть шею, спрятать руки и ноги. Но я не мог стать невидимым и был очень несчастлив. С товарищами можно было хоть драться. Это все-таки какой-то выход, но в обществе приятельниц матери у меня был очень жалкий вид. Я на собственном опыте убедился, как правильно наставление из «Подражания Христу»:
Беги от женщины, как от сетей и пут…
«Какой спасительный совет!» — думал я. Если бы я бежал от г-жи Ганс в тот роковой вечер, когда она, так поэтично сыграв ноктюрн, насытила все вокруг трепетом страсти, если бы я бежал от нее тогда, она не спросила бы: «Любите ли вы музыку?» и я не ответил бы: «Да, сударь».
Эти два слова «Да, сударь» непрерывно звучали у меня в ушах. Я все время помнил о них, или, вернее, в силу какого-то странного психологического явления, мне казалось, что время внезапно остановилось и все еще длится то мгновение, когда были произнесены непоправимые слова: «Да, сударь». Меня терзали не угрызения совести, нет! Угрызения совести были бы отрадой в сравнении с тем, что испытывал я. Полтора месяца я пребывал в мрачной меланхолии, тут даже мои родители пришли к убеждению, что я глуп.
Мою глупость дополняло то, что я был настолько же смел в душе, насколько застенчив в обращении с людьми. Обычно молодежь не отличается гибкостью ума. Я же был просто непреклонен. Я был убежден, что владею истиной. Наедине с самим собою я был неистов и полон протеста.
Каким молодцом, каким разбитным малым я был наедине с самим собой! С той поры я сильно изменился. Теперь я не очень робею в присутствии своих современников. Я стараюсь но возможности держаться посередине между теми, кто умнее меня, и теми, кто глупее, полагаясь на ум первых. Зато теперь я не чувствую уверенности лицом к лицу с самим собою… Но ведь я рассказываю о том, что было, когда мне шел семнадцатый год. Вы поймете, что при сочетании такой застенчивости с такой смелостью я в ту пору представлял собой довольно нелепое существо.
Через полгода после того ужасного происшествия, о котором я вам рассказал, я окончил с наградой класс риторики, и отец отправил меня на каникулы в деревню. Он поручил меня попечениям одного из своих самых скромных и достойных коллег, — старого сельского врача, практиковавшего в Сен-Патрисе.
Я поехал туда. Сен-Патрис — маленькая деревушка в Нормандии, расположенная на опушке леса и отлого спускающаяся к песчаному берегу, зажатому между двумя утесами. Этот берег был в те годы угрюмым и безлюдным. Море, которое я увидел впервые, и отрадное безмолвие лесов сразу очаровали меня. Смутный шум волн и листвы был созвучен смутному лепету моей души. Я скакал верхом по лесу, я валялся полуголый на песке, полный жажды чего-то неизведанного, того, что я угадывал везде и не находил нигде.
Целыми днями я бродил один и часто плакал без всякой причины; порой мне казалось, что мое сердце сейчас разорвется, так оно было переполнено. Словом, я ощущал великое смятение. Но какой покой на этом свете может сравниться с таким смятением? Никакой! Беру в свидетели деревья, ветви которых хлестали меня по лицу; беру в свидетели утес, с которого я любовался закатом, — ничто не сравнится с терзавшей меня болью, ничто не сравнится с этими первыми мужскими грезами! Если желание делает прекрасней все, к чему оно прикоснется, то желание неизведанного делает прекрасней вселенную.
Проницательность всегда как-то странно соединялась у меня с наивностью. Я, вероятно, еще долго не подозревал бы причины моих волнений и смутных желаний. Мне открыл ее поэт.
Еще в коллеже я пристрастился к чтению поэтов и сохранил эту любовь до сих пор. В семнадцать лет я обожал Вергилия и понимал его так хорошо, словно мои учителя и не объясняли мне его. Во время каникул я всегда носил в кармане томик Вергилия. Это была плохонькая книжонка — английское издание Блисса; она у меня и сейчас есть. Я берегу ее как зеницу ока, и каждый раз, когда я перелистываю эту книжечку, оттуда выпадают засушенные цветы. Самые давние из них — те, которые я сорвал в лесу Сен-Патрис, где я был в семнадцать лет так счастлив и так несчастен.
Раз как-то я брел в одиночестве по опушке леса, с наслаждением вдыхая запах свежего сена, а морской ветер оседал солью на моих губах, и вдруг я почувствовал страшную усталость, я присел на землю и долго следил за плывущими в небе облаками.
Затем по привычке раскрыл Вергилия и прочел:
Там всех несчастных, что лютым недугом любовь истерзала,
Тайные тропы скрывают и миртовый лес злополучных
Тенью одел, но тоска не покинула их и до смерти[266].
«…и миртовый лес злополучных тенью одел!..» О, я знал этот миртовый лес: он жил в моей душе. Но я не умел его назвать. Вергилий открыл мне причину моих страданий. Я понял, что люблю.
Но я не знал еще, кого я люблю. Это открылось мне зимой, когда я вновь увидел г-жу Ганс. Вы, конечно, более проницательны, чем был я. Вы угадали, что я любил Алису. Какая удивительная судьба! Я любил именно ту женщину, в глазах которой опозорил себя и которая несомненно была обо мне самого дурного мнения. Было от чего прийти в отчаяние. Но в те времена отчаяние было не в моде: наши отцы так часто прибегали к его помощи, что оно уже истрепалось. Я не предпринял ничего ужасного, ничего великого. Я не скрылся под разрушенные своды старого монастыря; не развеял тоски в пустыне, не взывал к аквилонам. Просто я был очень несчастен и сдавал экзамены на степень бакалавра.
Даже мое счастье было жестоко, — видеть Алису, слушать ее и думать: «Она единственная женщина в мире, которую я могу любить; я единственный мужчина, которого она не выносит».