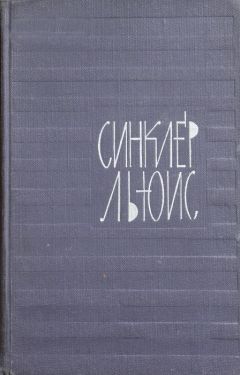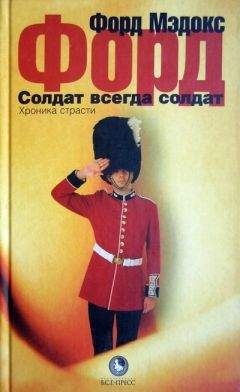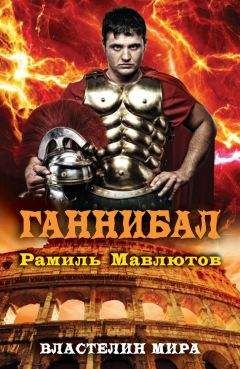— Значит, вы думаете, что мне лучше не возвращаться?
В голосе Кэрол звучало разочарование.
— Это очень трудный вопрос. Когда я говорю, что я эгоистка, я хочу сказать, что смотрю на женщин только с точки зрения их полезности в борьбе за наше политическое влияние. А вы? Могу я быть откровенна? Помните, что, говоря «вы», я не имею в виду вас одну. Я думаю о тысячах женщин, каждый год приезжающих в Вашингтон, в Нью-Йорк, в Чикаго, не удовлетворенных жизнью дома и чающих знамения с небес, — женщин самых разнообразных, от пятидесятилетних матерей в нитяных перчатках до девушек, только что из колледжа, организующих забастовки на фабриках своих собственных отцов! Все вы более или менее полезны мне, но лишь немногие из вас могут занять мое место, так как у меня есть одно достоинство: я отказалась от отца, матери и детей во имя любви к моему богу…
Вы должны ответить на один основной вопрос: явились вы сюда, чтобы, как принято выражаться, покорить Восток или чтобы победить себя?
Этот вопрос гораздо сложнее, чем большинство из вас думает и чем думала я, когда начинала переделывать мир. Самая большая трудность при «завоевании» Вашингтона или Нью-Йорка в том, что завоеватели больше всего должны остерегаться победы! Как это было просто в добрые, старые дни, когда писатели мечтали только продать сто тысяч экземпляров своего произведения, скульпторы — быть принятыми в богатых домах и даже политические деятели вроде меня простодушно радовались, если их выбирали на видные должности или приглашали прочесть цикл лекций в разных городах. Но мы, беспокойные души, перевернули все вверх дном. Сейчас самое позорное — это успех. Общественный деятель, пользующийся успехом у богатых покровителей, может быть вполне уверен в том, что он смягчил свои взгляды им в угоду, а писатель, заработавший кучу денег… бедняги, я слышала, как они оправдывались перед обтрепанными авторами романов с несчастливым концом! Как стыдятся они жирных кушей, передавая свои авторские права кинокомпаниям!
Готовы ли вы пожертвовать собой в этом превратно устроенном мире, где популярность делает вас непопулярной среди людей, которых вы любите, где наибольшая неудача — это дешевый успех и где истинный индивидуалист — лишь тот, кто отрекается от всякого индивидуализма ради служения беспечному, неблагодарному пролетариату, который над ним же смеется?..
Кэрол улыбнулась, как бы давая понять, что она бы рада была пожертвовать собой, но… сказала со вздохом:
— Я не знаю. Боюсь, что во мне мало героизма. Дома я не проявляла его. Я не совершила больших, значительных…
— Дело не в героизме. Дело в выдержке. Ваш Средний Запад вдвойне пропитан пуританством: пуританство прерий добавляется к пуританству Новой Англии. Добродушно-грубоватые пионеры Запада — это они только с виду такие, а в глубине души они все еще похожи на первых угрюмых поселенцев Плимут-Рока. Есть только один способ достигнуть чего-нибудь в провинции, быть может, единственно действенный способ вообще: вы рассматриваете одну за другой каждую мелочь в вашем доме, в церкви, в банке и спрашиваете, почему это так и кто первый издал закон, что это должно быть так. Если побольше женщин будут делать это достаточно бесцеремонно, мы станем цивилизованным народом уже через каких-нибудь двадцать тысяч лет, вместо того, чтобы ждать двести тысяч, как определяют мои скептические друзья-антропологи… Легкое, приятное и благодарное занятие для женщин: просить у людей объяснения их деятельности. Это самая опасная доктрина, какую я знаю!
Кэрол размышляла: «Я вернусь! Я буду задавать вопросы. Я всегда этим занималась, и всегда безуспешно, но это все, что я могу. Я спрошу Эзру Стоубоди, почему он против национализации железных дорог, спрошу Дэйва Дайера, почему аптекарю приятно, если его называют доктором, и, может быть, спрошу миссис Богарт, почему она носит вдовью вуаль, похожую на дохлую ворону».
Предводительница женского движения выпрямилась.
— У вас есть еще кое-что. У вас есть ребенок, которого вы можете ласкать. Вот что вводит меня во искушение. Я сплю и вижу малышей… И я часто брожу по паркам, чтобы посмотреть, как они играют. Дети в сквере Дюпона — как маки на клумбе. А политические противники называют меня бесполой.
«Хью, конечно, нужен свежий воздух! — в страхе подумала Кэрол. — Но я не дам ему вырасти неотесанным деревенским парнем. Я не дам ему торчать с зеваками на перекрестках… Это я, кажется, могу…»
Идя домой, она размышляла: «Теперь, когда прецедент создан, когда я присоединилась к союзу и даже устроила стачку и узнала, что такое солидарность, мне уже не будет так страшно. Уил теперь не сможет удержать меня, если я захочу уехать. Когда-нибудь я в самом деле поеду в Европу с ним… или без него. Я жила среди людей, которые не боятся тюрьмы. Теперь я могла бы пригласить какого-нибудь Майлса Бьернстама к обеду, не опасаясь, что скажут Хэйдоки… Кажется, могла бы… Я увезу с собой звуки голоса Иветт Жильбер и скрипки Эльмана. Они будут особенно приятны среди стрекотания кузнечиков на поле в осенний день. Я могу смеяться и оставаться при этом спокойной… Кажется, могу…»
Она вернется, но все-таки она не побеждена. Ей нравилось чувствовать себя непокоренной. Прерия больше не была пустой, залитой солнцем землей; она была живым бурым зверем, с которым Кэрол надо бороться; провинциальные улицы были населены тенями ее желаний, там жил звук ее шагов и таились семена величия.
IX
Активная ненависть к Гофер-Прери иссякла в Кэрол. Она видела в нем теперь молодой город тружеников. С сочувствием вспомнила она, как Кенникот защищал своих сограждан, видя в них «отличных людей, упорно работающих и старающихся как можно лучше растить своих детей». С нежностью вызывала она в воображении еще неуклюжую в своей молодости Главную улицу, простые коричневые коттеджи. Она жалела их — жалела за неказистую внешность, за оторванность от культуры. Ее трогала даже наивная тяга города к цивилизации, которая проявлялась в рефератах Танатопсиса, и претензия на величие, которая проявлялась в кампании за процветание. Главная улица тянулась перед ее мысленным взором в лучах пыльного степного заката — длинный ряд низких домов, немногим отличавшихся от обиталищ первых поселенцев, а в домах печальные, одинокие люди ждали ее приезда — печальные и одинокие, как старик, переживший всех своих друзей. Она вспоминала, что Кенникот и Сэм Кларк любили слушать ее пение, и ей хотелось очутиться среди них и петь им.
«Наконец-то, — ликовала она, — я научилась беспристрастно относиться к городу! Теперь я могу полюбить его».
Кэрол была очень горда тем, что стала такой терпимой.
Она проснулась в три часа утра после кошмара; ей приснилось, что Элла Стоубоди и вдова Богарт терзают ее.
«Я сделала из города миф. Вот как создаются предания о счастливом детстве, о прекрасных товарищах юности! Мы так легко все забываем! Я забыла, что Главная улица нисколько не считает себя достойной сожаления. Она считает, что бог возлюбил ее. Она не ждет меня. Ей все равно».
Но на следующую ночь она опять увидела настоящий Гофер-Прери. Это был ее дом и он ожидал ее в величавом сиянии заката.
X
Кэрол не возвращалась еще пять месяцев. Пять месяцев, заполненных жадным накоплением звуков и красок в запас на долгие и тихие дни.
Она провела в Вашингтоне почти два года.
Когда в июне она отправилась в Гофер-Прери, под сердцем она носила второго ребенка.
I
Всю дорогу Кэрол думала о том, какие впечатления ее ожидают. Она думала об этом так настойчиво, что ее впечатления по приезде были именно такими, каких она ожидала. Она радовалась каждому знакомому крыльцу, каждому сердечному приветствию и была польщена тем, что олицетворяла собой в этот день главную городскую сенсацию. Она поспешила обойти всех с визитом. Хуанита Хэйдок болтала об их вашингтонской встрече и, образно говоря, прижала ее к груди местного общества. Она, бывшая противница Кэрол, должна была теперь стать ей самым близким другом, ибо любезная Вайда Шервин держалась несколько сдержанно, опасаясь, как видно, столичной ереси.
Вечером Кэрол пошла на мукомольный завод. Таинственный гул динамо-машин на электростанции за стеной в темноте казался особенно громким. У стены сидел ночной сторож Чэмп Перри. Он протянул вперед жилистые руки и прошамкал:
— Мы все ужасно скучали по вас!
Кто будет скучать по ней в Вашингтоне?
Кто в Вашингтоне так достоин доверия, как Гай Поллок? Когда она увидела его на улице, улыбающегося, как всегда, он показался ей чем-то вечным, частью ее самой.
Через неделю Кэрол пришла к выводу, что она ни счастлива, ни огорчена своим возвращением. Она вступала в каждый день так же просто и деловито, как во время своей службы в Вашингтоне. Это была ее задача, ей предстояли механические обязанности и бессодержательные разговоры, но что в том?