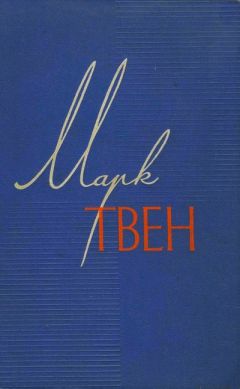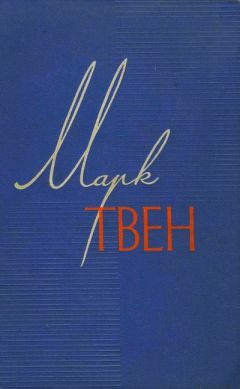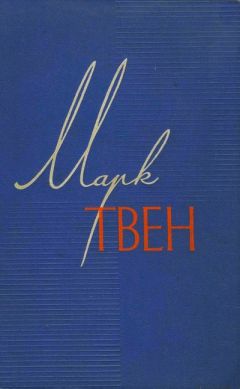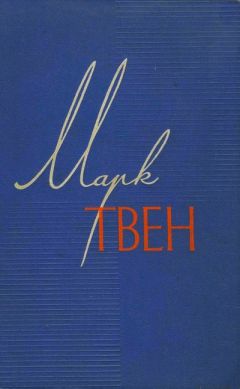— Как? — спросила я. — Не поискав даже потерявшегося крючка?
— Потерявшийся крючок! — закричали все насмешливо.
А отец добавил, презрительно усмехаясь:
— Отойдите все и сторону и соблюдайте полную серьезность — она собирается отыскать этот потерявшийся крючок! О, она несомненно отыщет его!
При этом они все снова засмеялись.
Я не смутилась. У меня не было ни страха, ни сомнения. Я сказала:
— Смейтесь, теперь ваша очередь смеяться. Но наступит и наша, вы увидите.
Я взяла светильник. Я надеялась, что тотчас найду этот проклятый крючок, и принялась за поиски с такой уверенностью, что люди стали серьезней, начиная сознавать, что они, пожалуй, поторопились. Но увы! О, горечь тщетных поисков! Наступило глубокое молчание, оно длилось долго, можно было успеть десять-двенадцать раз пересчитать свои пальцы; а затем сердце мое начало замирать, и вокруг меня снова раздались насмешки; они становились громче, увереннее, и когда наконец я бросила поиски, все разразились злорадным хохотом.
Никто никогда не узнает, что я испытывала в ту минуту. Но любовь поддержала меня, дала мне силы, и я заняла принадлежащее мне по праву место рядом с Калулой, обняла его за шею и шепнула ему на ухо:
Ты не виновен, мой родной, я знаю; но скажи мне это сам ради моего спокойствия, тогда я смогу перенести все, что нас ожидает.
— Он ответил:
Я не виновен, и это так же верно, как то, что я стою сейчас перед лицом смерти. Утешься, о израненное сердце, успокойся, о дыхание мое, жизнь моей жизни.
— Тогда пусть придут старейшины!
И как только я произнесла эти слова, на улице заскрипел снег под ногами, а затем в дверях показались сгорбленные фигуры старейшин.
Мой отец официально обвинил Калулу и подробно рассказал о происшествиях минувшей ночи. Он заявил, что за дверью стоял сторож, а в доме не было никого, кроме членов семьи и пришельца.
— Разве может семья украсть свое собственное имущество?
Он замолк. Старейшины сидели молча. Прошло много долгих минут, пока один за другим они не сказали, каждый своему соседу:
— Обстоятельства говорят не в пользу пришельца.
Как горько мне было слышать его слова. Затем отец сел. О, я несчастная, несчастная! В ту самую минуту я могла доказать невиновность моего возлюбленного, но я и не подозревала об этом!
Главный судья спросил:
— Хочет ли кто-нибудь защищать преступника?
Я встала и сказала:
— Зачем ему нужно было красть этот крючок, или несколько крючков, или даже все крючки? Ведь он мог бы унаследовать все это богатство.
Я стояла в ожидании. Наступило долгое молчание, все тяжело дышали, и меня окутало паром дыхания, словно туманом. Наконец старейшины один за другим несколько раз медленно покачали головами и пробормотали:
— В том, что сказало дитя, есть истина.
О, мое сердце возрадовалось при этих словах — столь непрочным был этот подарок, но столь драгоценным. Я села.
— Если кто-нибудь еще хочет говорить, пусть скажет сейчас, ибо потом придется молчать, — сказал главный судья.
Мой отец встал и сказал:
— Ночью во мраке мимо меня к сокровищнице проскользнула какая-то фигура и вскоре возвратилась. Теперь я думаю, что это был пришелец.
О, я чуть не лишилась чувств! Я надеялась, что это моя тайна, и даже великий бог льдов не смог бы вырвать ее из моего сердца.
Главный судья сурово обратился к бедному Калуле:
— Говори!
Калула помедлил, а затем сказал:
— Да, это был я. Мысль об этих прекрасных крючках не давала мне уснуть. Я пошел туда, целовал и нежно гладил их — я надеялся, что радость, которую я испытываю при виде их, утолит мое беспокойство, а затем и положил их обратно. Может быть, я и уронил какой-нибудь крючок, но не украл ни одного.
О, сделать столь роковое признание в подобном месте! Наступила зловещая тишина. Я знала, что он сам произнес свой смертный приговор и что все копчено. На каждом лице можно было прочесть: «Это признание! Жалкое, трусливое, неискреннее!»
Я сидела чуть дыша и ждала. Наконец я услышала те торжественные слова, которые, я знала, были неминуемы, а каждое произнесенное слово ножом вонзалось мне в сердце.
— По решению суда обвиняемый будет подвергнут испытанию водой.
О, будь он проклят, тот человек, который научил нас этому «испытанию водой»! Его завезли к нам много поколений назад из какой-то далекой, никому неведомой страны. До этого наши отцы пользовались услугами предсказателей и другими ненадежными приемами испытаний, и, конечно, несчастные обвиняемые иногда спасались; но с тех пор, как ввели «испытание водой», которое выдумал человек, более мудрый, чем мы, простые, невежественные дикари, этого уже не случалось. Если человек, подвергшийся этому испытанию, тонет, его признают не виновным, а если он выплывает, это доказывает его вину. Сердце мое разрывалось, ибо я знала; он не виновен, он погибнет в волнах, и я больше не увижу его.
С той минуты я не отходила от него ни на шаг. Все эти драгоценные часы я плакала в его объятьях, а он говорил о своей глубокой любви ко мне, и я была так несчастна… и тем счастлива! Наконец они оторвали его от меня, а я, рыдая, последовала за ними и видела, как его бросили в море… Потом я закрыла лицо руками. Страдание? О, я знаю бездонную глубину этого слова!
В следующее мгновенье люди разразились злобными, торжествующими криками, и я в изумлении отняла руки от лица. О, горестное зрелище — он плыл!
Сердце мое мгновенно превратилось в камень, в лед. Я сказала:
— Он виновен и солгал мне!
Я с презрением отвернулась и ушла домой.
Его отвезли далеко в море и посадили на плавучую льдину, двигавшуюся к югу по великим водам. Затем вся родня возвратилась домой, и отец, сказал мне:
— Твой вор шлет тебе свои предсмертные слова: «Передайте ей, что я невиновен и что все дни, часы и минуты, пока я буду голодать и мучиться, я буду любить ее, думать о ней и благословлять тот день, когда впервые узрел ее прекрасный лик». Очень мило, даже поэтично!
— Он ничтожество, и я не хочу снова слышать о нем, — ответила я.
И подумать только, все это время он был невиновен.
Прошло девять месяцев, девять скучных, печальных месяцев, и наконец наступил день Великого Ежегодного Жертвоприношения, когда все девушки нашего племени моют лица и расчесывают волосы. И при первом же взмахе моего гребня роковой рыболовный крючок выпал из моих волос, где он таился все эти месяцы, а я упала без чувств на руки полного раскаяния отца! Тяжело вздыхая, он сказал:
— Мы убили его, и отныне я уже никогда не улыбнусь!
Он сдержал свое слово. Слушайте: с того дня не проходит и месяца, чтобы я не расчесывала свои волосы. Но какой теперь от этого толк?
Так закончился рассказ бедной девушки, из которого мы узнали, что сто миллионов долларов в Нью-Йорке и двадцать два рыболовных крючка за Полярным кругом делают человека одинаково могущественным, а значит — всякий, кто находится в стесненных обстоятельствах, просто глуп, если он остается в Нью-Йорке, вместо того, чтобы накупить на десять центов рыболовных крючков и эмигрировать.
В марте 1882 года я жил на Ривьере, в Ментоне. Всеми благами, которыми в Монте-Карло или в Ницце вы пользуетесь на людях, здесь, в этом уединенном уголке, можно наслаждаться в одиночестве. То есть я хочу сказать, что яркое солнце, животворный воздух и кристально чистое голубое море здесь не омрачены людской суетой, шумом и сутолокой. Ментона — тихий, спокойный, скромный городок без всяких претензий на роскошь. Богатая и знатная публика сюда, как правило, не заглядывает. Впрочем, время от времени здесь появляется какой-нибудь богач, и недавно я познакомился с одним из них. Чтобы не раскрывать его инкогнито, я буду называть его Смитом.
Однажды, когда мы сидели за завтраком в Английском отеле, Смит воскликнул:
— Скорее посмотрите на того человека, который выходит из дверей. Постарайтесь запомнить его внешность!
— Зачем?
— Вы знаете, кто это такой?
— Да. Он поселился здесь за несколько дней до вашего приезда. Говорят, это старый, удалившийся от дел богатый шелкопромышленник из Лиона. Он, очевидно, один в целом свете. У него всегда такой грустный, мечтательный вид, и он ни с кем не разговаривает. Зовут его Теофиль Маньян.
Я думал, что Смит растолкует мне, чем вызван его интерес к мосье Маньяну, однако вместо этого он погрузился в глубокое раздумье и, казалось, на некоторое время забыл не только обо мне, но вообще обо всем на свете. Он то и дело ерошил свои шелковистые седые волосы, а завтрак его тем временем остывал на столе. Наконец он сказал:
— Нет. Никак не могу вспомнить.