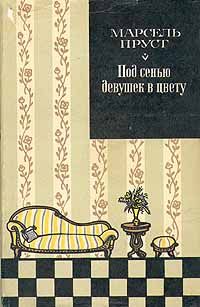Я слова данного держусь верней тебя:
Забудешь ты свой долг — его исполню я».
«Должна сознаться, что он довольно красивый малый, — сказала о Блоке Альбертина, — но до чего же противный!» Я не считал Блока красивым малым, но он был действительно красив. Лоб у него был довольно выпуклый, нос орлиный, выражение крайне насмешливое и уверенное в том, что оно насмешливое, словом, лицо приятное. Но Альбертине он нравиться не мог. Впрочем, быть может, это зависело от ее дурных черт: жестокости, нечуткости, свойственной всей стайке в целом, грубости со всеми окружающими. Но и потом, когда я их познакомил, неприязнь Альбертины не уменьшилась. Блок вышел из той среды, где между подтруниваньем над светом и почтением к хорошим манерам, которые непременно должны быть у человека, «моющего руки», возникло нечто среднее, отличавшееся от светских приличий и в то же время являвшее собой особенно омерзительный род светскости. Когда Блока с кем-нибудь знакомили, он кланялся, скептически улыбаясь и одновременно изъявляя преувеличенную почтительность, и, если это был мужчина, говорил: «Очень рад», — тоном, в котором слышалась издевка над этими словами и вместе с тем сознание, что таким тоном не может говорить какой-нибудь подонок. Первое мгновение Блок посвящал обычаю, который он соблюдал и над которым сам же смеялся (таким же тоном он поздравлял первого января: «С Новым годом, с новым счастьем»), а затем с хитрым и лукавым видом «говорил тонкие вещи», в которых часто было много справедливого, но которые «действовали на нервы» Альбертине. Когда, при первой встрече, я сказал ей, что его фамилия — Блок, она воскликнула: «Я готова была держать пари, что это жидюга! Что-что, а фасон давить — это они умеют». Впрочем, ютом в Блоке раздражало Альбертину еще и другое. Как многие интеллигенты, он не умел говорить просто о простых вещах. Для каждой простой вещи он подбирал изысканное выражение, а затем обобщал. Это надоедало Альбертине — она не очень любила, чтобы кто-нибудь следил за тем, что она делает, и Блок не доставил ей удовольствия, когда, заметив, что она, подвернув ногу, сидит неподвижно, изрек: «Она возлежит на шезлонге, но, в силу своей веэдесущности, одновременно играет то в нечто, именуемое гольфом, то во что-нибудь вроде тенниса». Это была всего лишь «литература», но Альбертина вообразила, что из-за этого у нее могут выйти неприятности с теми, кто ее звал и с кем она не пошла, потому что, по ее словам, она не могла двигаться, и этого была достаточно, чтобы ей стали противны лицо и самый звук голоса молодого человека, который так выразился. Мы с Альбертиной простились, порешив на том, что как-нибудь погуляем. Я говорил с ней, не сознавая, куда падают мои слова и во что они превращаются, — я словно бросал камни в бездонную пропасть. Вообще тот, к кому обращены наши слова, наполняет их содержанием, которое он извлекает из своей сущности и которое резко отличается от того, какое вложили в эти же самые слова мы, — с этим фактом мы постоянно сталкиваемся в жизни. Но если вдобавок мы имеем дело с человеком, воспитание которого (как воспитание Альбертины для меня) является для нас загадкой, чьи склонности, круг чтения и взгляды нам неизвестны, то мы не знаем, будет ли в нем на наши слова отклик более сочувственный, чем в животном, которому все-таки можно что-нибудь втолковать. Таким образом, сделать попытку подружиться с Альбертиной означало для меня то же, что прикоснуться к неведомому, если не к невозможному, это было для меня занятие такое же нелегкое, как объездка лошади, и такое же успокоительное, как уход за пчелами или выращиванье роз.
Я был уверен всего лишь несколько часов назад, что Альбертина ответит на мой поклон издали. Прощаясь, мы строили планы совместной прогулки. Я дал себе слово, что когда опять встречусь с Альбертиной, то буду смелее, и заранее обдумал все, что я ей скажу и даже (ведь теперь я был убежден в ее легкомыслии) каких ласк я стану у нее добиваться. Но ум так же подвержен влияниям, как растение, как клетка, как химические элементы, а средой, меняющей его, когда он в нее погружается, служат обстоятельства, новое окружение. Когда я снова встретился с Альбертиной, то под влиянием перемены, происшедшей во мне только оттого, что я был с ней, я сказал ей совсем не то, что собирался сказать. Потом, вспоминая багровый висок Альбертины, я спрашивал себя: не выше ли она оценит какую-нибудь любезность, которую она восприняла бы как бескорыстную? Наконец, временами меня смущали ее взгляды, ее улыбки. Они могли свидетельствовать и о ветрености, и о глуповатой веселости в сущности порядочной резвушки. Одно и то же выражение лица, одно и то же выражение, которое она употребляла в разговоре, допускало различные толкования; я отступал перед всем этим, как отступает ученик перед трудностями перевода с греческого.
На этот раз мы почти сейчас же встретили высокую Андре, перепрыгнувшую через председателя. Альбертине пришлось представить меня ей. Глаза у ее подруги были необычайно светлые, словно дверной проем из темного помещения в комнату, освещенную солнцем и зеленоватым отблеском искрящегося моря.
Прошли мимо пятеро мужчин, которых я хорошо запомнил в первые же дни моей жизни в Бальбеке. Я часто задавал себе вопрос, что это за люди. «Господа не из шикарных, — презрительно усмехаясь, заметила Альбертина. — Старичок в желтых перчатках, этакий мышиный жеребчик, вид хоть куда, правда? — это бальбекский зубной врач, славный человечек; толстяк-это мэр, только не карапуз, того вы, наверно, видели, он — учитель танцев, тоже противный тип, он нас терпеть не может, потому что мы очень шумим в казино, ломаем стулья, не желаем танцевать на ковре, и за это он никогда не дает нам приза, хотя здесь только мы и умеем танцевать. Зубной врач — милый человек, я бы с ним поздоровалась, чтобы позлить учителя танцев, но не могу: с ними де Сент-Круа, генеральный советник, — из очень хорошей семьи, но ради денег перешел на сторону республиканцев: ни один порядочный человек с ним не здоровается. Мой дядя и он входят в правительство, а другие мои родственники от него отвернулись. Худой, в непромокаемом плаще, это — капельмейстер. Как, разве вы его не знаете? Дирижирует он божественно. Вы, не слушали „Cavaleria Rusticana“? По-моему, идеально! Вечером он дает концерт, но мы не пойдем, потому что это в зале мэрии. В казино-то ладно, но вот если мы пойдем в залу мэрии, откуда убрали распятие, мать Андре хватит удар. Вы можете мне возразить, что муж моей тети тоже в правительстве. Но тут уж ничего не поделаешь. Тетя есть тетя. Не за это же я ее люблю! У нее всегда было только одно желание — как бы от меня отделаться. Действительно заменила мне мать, — и это ее двойная заслуга, потому что она мне никто, — моя подруга, и люблю я ее как родную мать. Я вам покажу ее карточку». К нам подошел чемпион по гольфу и игрок в баккара Октав. Я подумал, что у меня с ним найдется о чем поговорить, так как выяснил из разговора, что он дальний родственник и к тому же любимчик Вердюренов. Но Октав с презрением относился к знаменитым средам и, кроме того, заметил, что Вердюрен не имеет понятия, когда полагается надевать смокинг и что поэтому с ним неудобно встречаться в некоторых «мюзик-холлах», где не так-то приятно слышать: «Здравствуй, пострел!» — из уст господина в пиджаке и черном галстуке, как у сельского нотариуса. Потом Октав с нами расстался, а вслед за ним и Андре — дойдя до своего домика, она туда вошла, за всю дорогу не проронив ни единого слова. Я особенно пожалел, что она ушла, потому что, когда я заговорил с Альбертиной о том, как ее подруга была со мной холодна, и мысленно сопоставлял трудности, должно быть мешавшие Аль-' бертине сдружить меня и своих приятельниц, и враждебность, с которой, исполняя мое желание, в первый же день, по-видимому, столкнулся Эльстир, мимо прошли девицы д'Амбрезак, и я и Альбертина им поклонились.
Я вообразил, что знакомство с д'Амбрезак повысит меня в глазах Альбертины. Это были дочери родственницы маркизы де Вильпаризи, дочери знакомой принцессы Люксембургской. Владельцы небольшой виллы в Бальбеке, г-н и г-жа д'Амбрезак были страшнейшие богачи, но вели очень скромную жизнь, муж всегда ходил в одном и том же пиджаке, жена — в темном платье. Оба почтительнейше здоровались с моей бабушкой, но ничего этим не добивались. Дочки, очень красивые, одевались в высшей степени элегантно, но элегантность эта была городская, а не пляжная. В длинных платьях, в больших шляпах, они казались существами не той породы, что Альбертина. Она отлично знала, кто они такие. «А, вы знакомы с малышками д'Амбрезак? Значит, у вас очень шикарные знакомства. Впрочем, они очень простые, — поспешила добавить она, как будто в этом заключалось некоторое противоречие. — Они очень милы, но уж до того строго воспитаны, что их не пускают в казино, главным образом из-за нас, оттого что у нас чересчур дурной тон. Они вам нравятся? Ну, это как на чей вкус. Ни дать ни взять беленькие гусенята. В этом, наверно, есть своя прелесть. Если вы любите беленьких гусенят, то лучшего вам и желать нечего. Очевидно, они могут нравиться, раз одна из них — невеста Сен-Лу. И это большое горе для младшей — она была влюблена в этого молодого человека. Меня раздражает уже одно то, как они говорят — еле шевеля губами. И потом, они смешно одеваются. Они ходят играть в гольф в шелковых платьях. В их годы они одеваются претенциознее, чем пожилые женщины, которые знают толк в туалетах. Вот жена Эльстира — это действительно элегантная женщина». Я на это возразил, что, по-моему, она одевается удивительно просто. Альбертина засмеялась. «Одевается она очень просто, это правда, но изумительно и, чтобы достичь того, что вы называете простотой, тратит бешеные деньги». Туалеты г-жи Эльстир не задерживали на себе внимания тех, кто не отличался в этой области определенным и строгим вкусом. У меня такого вкуса не было. Эльстир, по словам Альбертины, отличался вкусом безукоризненным. Я об этом не подозревал, равно как и о том, что каждая изящная, но простая вещь у него в мастерской являла собою чудо, о котором он раньше мечтал, за которым гонялся по аукционам, всю историю которого он изучал до того дня, когда, заработав нужную сумму, он наконец получал возможность приобрести его. Но о вещах Альбертина, такая же невежественная, как я, ничего не могла мне сообщить. Зато, движимая инстинктом кокетки и, может быть, сожалением бедной девушки, которая бескорыстнее и тоньше ценит у богатых то, во что она сама не сможет нарядиться, Альбертина много говорила мне о том, как хорошо разбирается Эльстир в костюмах, до чего он придирчив: каждая женщина кажется ему плохо одетой, о том, что для него в каждом предмете, в каждом оттенке заключен целый мир, а потому он заказывает для жены, платя бешеные деньги, шляпки, зонтики, манто, красоту которых он научил понимать Альбертину и на которые человек, лишенный вкуса, обратил бы столько же внимания, сколько я. Впрочем, Альбертина, занимавшаяся немного живописью, хотя и не питала к ней, по ее же собственному признанию, ни малейшей «склонности», вообще была без ума от Эльстира и, благодаря тому, что он много рассказывал ей и показывал, научилась разбираться в картинах, что не вязалось с ее восторгом от «Cavaleria Rusticana». Ведь на самом деле, хотя это пока еще не очень проявлялось, она была удивительно умна, а в тех глупостях, какие она говорила, была повинна не она, а ее среда и возраст. Эльстир оказывал на нее влияние благотворное, но ограниченное. Умственное ее развитие не было всесторонним. Ее вкус в живописи почти догнал вкус в области костюма и во всех формах изящного, музыкальный же ее вкус намного отстал.