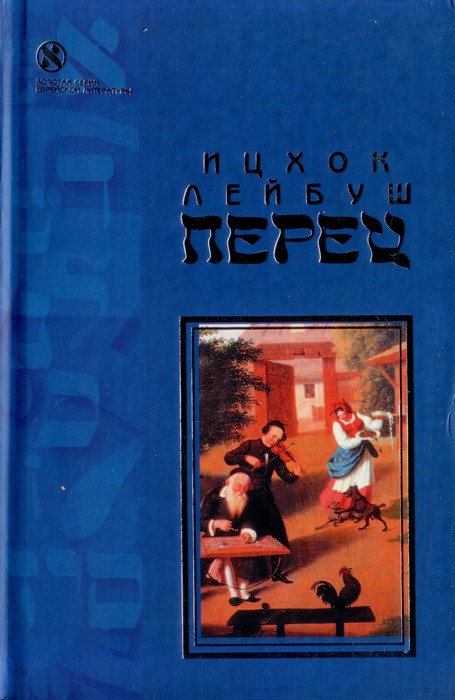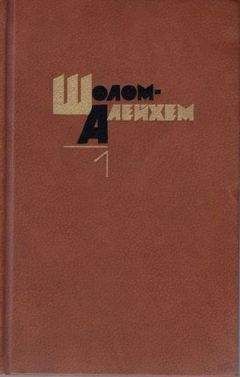все прахом пошло. А он сидит себе в своем хедере и — ничего.
Понимаете, какая жизнь: с утра луковица с хлебом, к обеду кусок селедки, вечером остаток от селедки. Моется ковшиком у колодца, вытирается полой и ест себе селедку с хлебом. Что вы думаете? Хороший у него был вид! На покойника похож стал! Глаз совсем не видно было! Только две черные ямы в черепе. Сгорбленный в три погибели, а платье, Господи помилуй! Шатался он, как тень, как привидение, совсем голову потерял. Однажды, в субботу бежит он в синагогу с талесом и филактериями подмышкой! Человек идет по улице, видит людей в штраймелях [42], в атласных кафтанах, видит закрытые лавки, и ничего — бежит с талесом и филактериями!
— Мойшеле! — кричат ему. Он ничего не слышит. А тут суббота, нельзя делать больших шагов! Все со смеху покатываются. К счастью, какой-то подмастерье бросил в него камнем, попал в плечо, и Мойшеле упал.
И странное дело: за занятиями с детьми он становится вполне нормальным человеком, прямо узнать его нельзя.
Увлекается, горячится, повторяет объяснения, но при всем том он и тогда не в своем уме. Он так углубляется в Тору, что даже забывает ударить ученика, — плетку он уж давно забросил куда-то. И что вы думаете, мальчикам рай в хедере был! У него бы отняли учеников, но он такой хороший меламед, что дети успевали без одного удара, без одного щипка. Такая уж в нем сила! Зато, лишь только закроет фолиант, он переставал быть человеком, — ни для людей, ни для Бога, забывал про еду, про сон, даже про молитву.
Счастье еще, что дети его любили. Они готовы были за него в огонь и воду. Обо всем напоминали, все подавали:
— Ребе, совершите омовение, — говорит ему ученик. Он умоется.
— Ребе, кушайте!
— Кушать, — говорит он, — нет, он обождет. Он не любит кушать один.
Может, вы знаете, кого он ждал?
Ждет, — сидит с куском хлеба в руке, покачивается и смотрит на дверь, точно Илья-пророк должен войти.
Но тут он вспоминал, видно, что Илья-пророк является только к сейдеру [43]. Тогда он начинал есть, и плакать.
— Отчего вы плачете, ребе? — спрашивали перепуганные дети.
Он не отвечал, отворачивался к стене, и дети слышали, что он рыдает. Иногда он подходил к платяному шкафу, единственное, Что осталось от хозяйства, — открывал его, стоял и смотрел, — смотрел, точно он был великим богачом и думал, какой бы ему одеть сюртук — атласный или шелковый. А в шкафу, клянусь вам, кроме ее нескольких тряпок, которых никто даже купить не хотел, не было ничего.
В местечке, у каждого, разумеется, свое на уме, у каждого своих дел достаточно. Мне, правда, было жаль его, но я как раз к тому времени овдовел вторично. Я вам уж сказал, что при второй женитьбе меня надули! Здорово-таки надули. Она, не про вас будь сказано, хворала и хворала, пока не умерла, и мне приходилось опять подыскивать себе жену, потому что у меня тогда уж были, что называется, «мои, и ее, и наши» дети, и что может мужчина поделать с детьми, скажите сами, что? Кормить я их стану? Убаюкивать? Мыть и чесать? Мне, разумеется, не сладко было на душе, и я про Мойшеле опять забыл. Но я, слава Богу, не бесталанный какой-нибудь. Я женился в третий раз, вот на той самой, которая, не про вас, не про любого еврея будь сказано, недавно умерла. Она была бой-баба, для шинка точно создана, и бездетна к тому же. Что сделал Бог? Простудилась она среди самого лета в микве, схватила воспаление легких, стоило уйму денег — и умерла!..
Итак, на чем я остановился? Да, я тогда в третий раз женился. Как только я передал ей дело в руки и увидел, что есть на кого положиться, я тотчас же за Мойшеле.
— Ты должен жениться, — говорю я. — Хоть помирай, но жениться ты должен.
Он и слушать не хочет. «Ну, — думаю я, — погоди же». Уговорился я с родителями, чтобы у него для виду отняли учеников. Раз навсегда — меламед должен иметь жену. Мой Мойшеле ни с места! Без учеников, так без учеников!
Он себе уходит за город гулять, лежит себе на берегу реки… Проголодается, так приходит в город, перехватит где-нибудь кусок хлеба, скушает, прочитает потрапезную молитву и опять уходит. Я уж думал, что ничего тут не поделаешь, но на третий день Мойшеле является в бет-гамедраш. Он уже готов жениться! Вы, может, думаете, он образумился, понял, что человек без жены ни то ни се. Упаси Бог! По хедеру стосковался, детей ему недостает. Ну, пусть так, лишь бы женился. Он дает слово, что женится, поручают мне подыскать ему жену, и ему возвращают учеников.
И что вы думаете? Когда я взял дело в свои руки, оно у меня закипело. Нечего говорить, и перст Божий был в этом деле. Подвернулась как раз прекрасная партия. Раньше мне ее предлагали, но какой-то сват, да изгладится память о нем, задурил мне голову.
Представьте себе, женщина — клад: вдова, процентщица, под заклад она ссужала, бой-баба, все счета вела на память и никогда не в ущерб себе. И как раз за него она захотела выйти, такое у него счастье было!
Я думал уж собрать ему на одежду, хотя бы штраймель купить… Так она присылает сказать, что она этого не хочет, что она сама дает двадцатипятирублевку. Ну, и разодели же его, по-царски! Всего накупили: штраймель, башмаки, чулки, два tales-koton, брюк две-три пары. Немедля их обвенчали, и мой Мойшеле под венцом сиял, что твой вельможа. Однако безумное лицо его не было спокойно ни минуты, точно у женщины во время родовых схваток: губы дрожали, словно нашептывали заговоры, а глаза горели недобрым огнем. Сумасшедший, да и только!
После свадьбы у него появился совсем новый пункт помешательства. Во-первых, жена потребовала, чтоб он бросил хедер. Она зарабатывает чуть ли не десять рублей в неделю, к чему ей хедер? Сиди в бет-гамедраше за Торой и катайся, как сыр в масле. Так он заупрямился: он должен быть меламедом, он привык к детям, жить без них не может. Будут у тебя свои дети, — нет, пока он должен остаться меламедом!
Ну, черт с тобой, держись с хедером. Но тут он опять начинает задумываться и совсем перестает говорить. Оживляется лишь при занятиях с детьми, а обыкновенно произносит только два слова: «Не то». Что «не