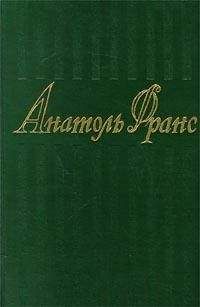— Сударь, — отвечал аббат, — оставим в покое Кадма, ежели он вас раздражает; я хочу только сказать, что министр играет ничтожную роль в собственных начинаниях и поэтому не заслуживает ни славы, ни осуждения. Я хочу сказать, что, если в жалкой комедии жизни и кажется со стороны, будто монархи повелевают, а народы послушно выполняют их волю, так это всего-навсего игра, пустая видимость, на самом же деле теми и другими управляет незримая сила.
В тот летний вечер, когда уже стемнело и вокруг фонаря «Малютки Бахуса» плясала роем мошкара, г-н аббат Куаньяр наслаждался прохладой на паперти храма св. Бенедикта Увечного. Он, как обычно, предавался размышлениям, когда подошла Катрина и села рядом с ним на каменную скамью. Мой добрый учитель любил воздавать хвалу господу в его творениях. Ему доставляло удовольствие смотреть на эту пригожую девушку, а так как он обладал умом веселым и цветистым, то стал говорить ей приятные слова. Он похвалил ее за то, что она умница и умна не только своим язычком, но и грудка у нее умная и все прочие статьи, а улыбается она не только устами и щечками, но всеми ямочками и прелестными изгибами своего тела; и потому-то так несносны скрывающие ее одежды, что они не позволяют видеть, как она смеется вся.
— Раз уж нам все равно положено грешить на этой земле, — говорил он, — и никто, кроме тех, что пребывают в гордыне, не может почитать себя непогрешимым, я хотел бы, милочка, лишиться господней благодати возле вас, если, конечно, на то будет ваша добрая воля. Для меня в этом было бы два неоценимых преимущества: во-первых, я согрешил бы с редким удовольствием и с несказанным наслаждением, во-вторых, могущество ваших чар было бы мне оправданием, ибо несомненно в Книге Суда написано, что прелести ваши неотразимы. И сие должно быть принято во внимание. Бывают неразумные люди, которые предаются блуду с женщинами некрасивыми и плохо сложенными. Поступая таким образом, эти несчастные рискуют погубить свою душу, ибо они грешат ради того, чтобы согрешить, и, усердствуя во грехе, творят зло. Тогда как такая прельстительная кожа, как у вас, Катрина, является оправданием пред очами всевышнего. Ваши прелести чудеснейшим образом смягчают вину, ибо она, будучи невольной, становится простительной. Скажу без утайки, милочка, возле вас я чувствую, как божья благодать покидает меня и стремительно уносится ввысь. Вот сейчас, когда я говорю с вами, она уже почти исчезла, от нее осталась только крохотная беленькая точка вон над теми крышами, где коты на карнизах предаются любви с яростным визгом и детскими воплями, меж тем как луна бесстыдно восседает на дымовой трубе. Все, что открыто моему взору в вашей особе, Катрина, волнует меня, а то, чего я не вижу, волнует еще более.
Слушая эти слова, Катрина опустила глаза и уставилась на свои колени, а потом украдкой скользнула блестящим взором по лицу аббата Куаньяра.
И нежнейшим голосом сказала:
— Я вижу, вы желаете мне добра, господин Жером, так пообещайте мне сделать то, о чем я вас попрошу; я буду вам за это так благодарна!
Мой добрый учитель пообещал. Кто бы не сделал этого на его месте!
Тогда Катрина с живостью заговорила:
— Вы знаете, господин Жером, что аббат Ла Перрюк, викарий прихода святого Бенедикта, обвиняет брата Ангела, будто тот украл у него осла; и вот теперь он подал на него жалобу духовному судье. А все это клевета и напраслина. Добрый брат просто взял осла на время, развозить реликвии по деревням. А осел дорогой потерялся. Реликвии-то потом нашлись. И это, конечно, самое главное, как говорит брат Ангел. Но аббат Ла Перрюк требует своего осла и слушать ничего не хочет. И добьется того, что бедного братца посадят в епархиальную темницу. Только вы один и можете смягчить гнев этого священника и уговорить его взять обратно свою жалобу.
— Но у меня, милочка, нет никакой возможности это сделать, — отвечал аббат Куаньяр, — да и ни малейшей охоты!
— Ах! — вздохнула Катрина, подсаживаясь к нему поближе и поглядывая на него с притворной нежностью. — На что бы я годилась, коли бы не могла внушить вам охоту! А что до возможности, то она у вас есть, господин Жером, она у вас есть. Вам не будет стоить никакого труда спасти бедного братца. Нужно только поднести господину Ла Перрюк восемь проповедей на великий пост и четыре на рождественский. У вас так складно выходят проповеди, что вам, должно быть, одно удовольствие их сочинять. Напишите двенадцать проповедей, господин Жером, напишите их вот теперь же. А я сама приду к вам за ними в вашу каморку на кладбище святого Иннокентия. Господин Ла Перрюк, который такого высокого мнения о вашей учености и заслугах, считает, что дюжина ваших проповедей стоит одного осла. И как только он получит всю дюжину, он возьмет свою жалобу обратно. Он сам это сказал. Ну, что для вас двенадцать проповедей, господин Жером? И я вам обещаюсь произнести аминь в конце последней. Ведь вы же мне пообещали, — прибавила она, обнимая его за шею.
— Ну, нет! — решительно сказал г-н Куаньяр, сбрасывая хорошенькие ручки, лежавшие на его плечах. — Отказываюсь наотрез. Обещания, которые даешь пригожей девушке, обязывают только нашу плоть и нарушить их нет греха. Не рассчитывайте, моя красавица, что я стану спасать вашего любезного бородача из рук духовного судьи. И если бы я взялся написать одну, две или даже дюжину проповедей, так это были бы проповеди против дурных монахов, которые позорят церковь и липнут, как мухи, к одежде святого Петра. Этот брат Ангел — мошенник. Он подсовывает благочестивым женщинам под видом реликвий бараньи и свиные кости после того, как сам с омерзительной жадностью обглодает их дочиста. Бьюсь об заклад, что на осле господина Ла Перрюка у него было перо из крыла архангела Гавриила и луч от звезды, которая указывала путь волхвам, а в какой-нибудь маленькой скляночке немножко звона тех самых колоколов, что звонили на колокольне храма Соломонова. Он неуч, он враль, и вы его любите. Вот три причины, по которым он мне не нравится. Предоставляю вам самой, милочка, судить, какая из них самая веская. Очень может быть, что это окажется наименее возвышенная, ибо, признаюсь, что я сейчас вожделел к вам с такой силой, которая отнюдь не подобает ни возрасту моему, ни сану, Но не извольте ошибаться: я весьма живо ощущаю, какой ущерб этот ваш любовник в монашеской рясе наносит церкви господа бога нашего Иисуса Христа, коей весьма недостойным членом я себя почитаю, И пример этого капуцина вызывает во мне такое отвращение, что у меня внезапно явилось желание поразмыслить над какими-нибудь прекрасными строками святого Иоанна Златоуста вместо того, чтобы тереться коленями о ваши коленки, чем я занимаюсь вот уж добрую четверть часа. Ибо похоть грешника преходяща, а слава господня длится во веки веков. Я никогда не придавал слишком большого значения плотскому греху. В этом мне можно отдать справедливость. Я не прихожу в ужас по примеру господина Никодема из-за такой малости, как шашни с хорошенькой девушкой. Но чего я не выношу, так это низости душевной, лицемерия, вранья, тупого невежества, словом, всего того, чем отличается ваш брат Ангел, ибо он истый капуцин. Якшаясь с ним, мадемуазель, вы привыкаете к такому грязному распутству, которое роняет вас в вашем звании веселой девицы. Я знаю, что в вашем ремесле приходится сносить много унижений и горестей, и все же это несравненно достойнее, чем быть капуцином. Этот мошенник грязнит вас, как он грязнит все, к чему прикасается, вплоть до сточной канавы на улице святого Иакова, которую он мутит своими ногами. Подумайте, мадемуазель, о всех тех добродетелях, коими вы еще могли бы украситься даже при своем сомнительном ремесле, а ведь и единая из них могла бы однажды открыть вам врата рая, не будь вы так слепо преданны и подчинены этой грязной скотине.
Не отказываясь от того, что вам как-никак полагается получать от гостя, вы все же могли бы блюсти себя, Катрина, украшаться верой, надеждой и милосердием, любить бедных и посещать больных, вы могли бы раздавать милостыню, утешать страждущих и радоваться невинно, созерцая небо, воды, леса и поля. Вы могли бы по утрам, распахнув окно, славить господа, внимая щебету птиц; в дни паломничества вы могли бы взойти на гору святого Валериана и там, у подножья креста, оплакивать тихими слезами свою утраченную невинность; словом, вы могли бы заслужить, чтобы тот, кто читает в сердцах людей, сказал: «Катрина — мое создание, и я узнаю ее по тем проблескам божественного света, который еще не совсем угас в ней».
Тут Катрина перебила его.
— Послушайте, аббат, — сухо сказала она, — с чего это вам вздумалось угощать меня проповедью?
— Да ведь вы только что просили у меня их целую дюжину, — ответил он.
Она рассердилась.
— Берегитесь, аббат. От вас зависит, будем мы друзьями или врагами. Согласны вы сочинить двенадцать проповедей? Подумайте, прежде чем ответить.