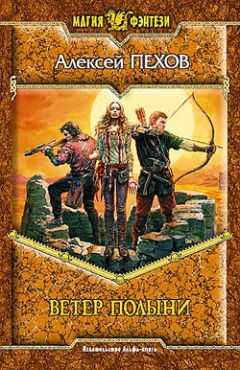Дубцов умолк, еще раз вытер ладонью обильно выступивший на лбу пот и, слегка наклонившись влево, бережно извлек из правого кармана штанов завернутые в газету заявления.
Все это было так неожиданно, что с минуту в комнате стояла тишина. Никто из присутствовавших не проронил ни слова, но зато каждый из них по-своему воспринял сказанное Дубцовым: счетовод, оторвавшись от очередной сводки, в изумлении вздернул очки на лоб и, не моргая, ошалело уставился на Дубцова подслеповатыми глазами; Яков Лукич, будучи не в силах скрыть хмурую и презрительную улыбку, отвернулся, а Давыдов, просияв радостной улыбкой, откинулся на спинку стула так, что стул заходил под ним ходуном и жалобно заскрипел.
— Прими наши бумаги, товарищ Давыдов. — Дубцов развернул газету, подал Давыдову несколько листков из школьной тетради, исписанных неровными крупными буквами.
— Кто писал заявления? — звонко спросил Давыдов.
— Бесхлебнов Младший, я и Кондрат Майданников.
Принимая заявления, Давыдов со сдержанным волнением сказал:
— Это очень трогательный факт и большое событие для вас, товарищ Дубцов с товарищами Майданниковым и Бесхлебновым, и для нас, Членов гремяченской партячейки. Сегодня ваши заявления я передам Нагульнову, а сейчас поезжай в бригаду и предупреди товарищей, что в воскресенье вечером будем разбирать их заявления на открытом партсобрании. Начнем в шесть часов вечера, в школе. Никаких фактических опозданий не должно быть, являйтесь вовремя. Впрочем, ты же за этим и понаблюдаешь. С обеда запрягайте лошадей, которые получше, и в хутор. Да, вот еще что. Кроме арб, какая-нибудь ехалка есть у вас на стану?
— Имеется бричка.
— Ну вот на ней и милости просим в хутор. — Давыдов еще раз как-то по-детски просветленно улыбнулся. Но тут же подмигнул Дубцову: — Чтобы на собрание явились приодетые, как женихи! Такое, браток, в жизни один раз бывает. Это, брат, такое событие… Это, милый мой, как молодость: раз в жизни…
Ему, очевидно, не хватало слов, и он замолчал, явно взволнованный, а потом вдруг встревоженно спросил:
— А бричка-то приличная с виду?
— Приличная, на четырех колесах. Но на ней навоз возить можно, а людям ездить днем нельзя, совестно, только — ночью, в потемках. Вся-то ободранная, ошарпанная, по годам, я думаю, мне ровесница, а Кондрат говорит, что ее ишо у Наполеона под Москвой наши хуторные казаки отбили…
— Не годится! — решительно заявил Давыдов. — Пришлю за вами дедушку Щукаря на рессорных дрожках. Говорю же, что такое событие один раз в жизни бывает.
Ему хотелось как можно торжественнее отметить вступление в партию людей, которых он любил, в которых верил, и он задумался: что бы еще предпринять такое, что могло бы украсить этот знаменательный день?
— Школу надо к воскресенью обмазать и побелить, чтобы выглядела как новенькая, — наконец сказал он, рассеянно глядя на Островнова. — Подмести около нее и присыпать песком площадку и школьный двор. Слышишь, Лукич? И внутри полы и парты надраить, потолки помыть, комнаты проветрить, словом — навести полный порядок!
— А ежели народу будет так много, что и в школу не влезут все, тогда как? — спросил Яков Лукич.
— Клуб бы соорудить — вот это дело! — задумавшись, вместо ответа мечтательно и тихо сказал Давыдов. Но сейчас же вернулся к действительности: — Детей, подростков на собрание не допускать, тогда все поместятся. А школу все равно надо привести в этакий… ну, сказать, праздничный, что ли, вид!
— А как нам быть с порученцами? Кто за нашу жизню распишется? — перед тем как уходить, задал вопрос Дубцов.
Крепко пожимая ему руку, Давыдов улыбнулся:
— Ты про поручителей говоришь? Найдутся! Сегодня вечером напишем вам рекомендации, факт! Ну, счастливого пути. Передавай от нас привет всем косарям и попроси, чтобы не давали траве перестаиваться и чтобы сено в валках не очень пересыхало. Можно на вторую бригаду надеяться?
— На нас всегда надейся, Давыдов, — с несвойственной ему серьезностью ответил Дубцов и, поклонившись, вышел.
На другой день рано утром Давыдова разбудил хозяин квартиры:
— Вставай, постоялец, к тебе коннонарочный прибег с поля боя… Устин Беспалый охлюпкой прискакал из третьей бригады, малость избитый и одетый не по форме…
Хозяин ухмылялся во весь рот, но Давыдов спросонья не сразу понял, о чем идет речь; приподняв голову от скомканной подушки, невнятно и равнодушно спросил:
— Что надо?
— Гонец, говорю, прискакал к тебе, весь побитый, не иначе — за подмогой…
Наконец-то Давыдов уяснил смысл сказанного хозяином, стал торопливо одеваться. В сенях он поспешно ополоснул лицо не остывшей за ночь, противно теплой водой, вышел на крыльцо.
У нижней приступки, держа в одной руке поводья, а другой замахиваясь на разгоряченную скачкой молодую кобылицу, стоял Устин Рыкалин. Выгоревшая на солнце синяя ситцевая рубаха его была разорвана в нескольких местах до самого подола и держалась на плечах только чудом; левая щека от скулы до подбородка чернела густою синевой, а глаз заплыл багровой опухолью, но правый — блестел возбужденно и зло.
— Где это тебя так угораздило? — с живостью спросил Давыдов, сходя с крыльца и позабыв даже поздороваться.
— Грабеж, товарищ Давыдов! Грабеж, разбой, больше ничего! — хрипло выкрикнул Устин. — Ну, не сукины ли сыны — пойти на такое дело, а?! Да стой же ты, клятая богом! — И Устин снова с яростью замахнулся на лошадь, едва не наступившую ему на ногу.
— Говори толком, — попросил Давыдов.
— Толковее и придумать нельзя! Соседи называются, чтоб они ясным огнем сгорели, чтоб их лихоманка растрясла, дармоедов! Как это тебе понравится? Тубянцы, соседи наши, дышло им в рот, нынешнюю ночь воровски приехали в Калинов Угол и увезли не менее тридцати копен нашего сена. На рассвете гляжу — накладывают на две запоздавшие арбы наше собственное, природное сена, а кругом уже — чистота, ни одной копны не видно! Я пал на коня, прискакиваю к ним: «Вы что делаете, такие-разэтакие?! На каком основании наше сено накладываете?!» А один из них, какой на ближней арбе был, смеется, гад: «Было ваше — стало наше. Не косите на чужой земле». — «Как так — на чужой? Повылазило тебе, не видишь, где межевой столб стоит?» А он и говорит: «Ты сам разуй глаза и погляди, столб-то позади тебя стоит. Эта земля спокон веков наша, тубянская. Спаси Христос, что не поленились, накосили нам сенца». Ага, так? Мошенство со столбами учинять? Ну, я его за ногу с арбы сдернул и дал ему разок своей культей промеж глаз, чтобы он зорче глядел и не путал чужую землю со своей… Дал я ему хорошего раза, он и с копылок долой, неустойчивый оказался на ногах. Тут остальные трое подбежали. Ишо одного я заставил землю понюхать, а там уже дальше мне их некогда было бить, потому что они меня вчетвером били. Да разве же один супротив четырех может устоять? Пока наши подоспели на драку, а они меня уже всего разукрасили, как пасхальное яйцо, и рубаху начисто изуродовали. Ну, не гады ли? Как я теперь к своей бабе покажусь? Ну, пущай били бы, а зачем же за грудки хватать и рубаху с плеч спускать? Теперь куда же мне ее девать? На огородное пугало пожертвовать, так и пугало постесняется в таком рванье стоять, а порвать ее девкам на ленты — носить не станут: не тот матерьял… Ну, разве же не попадется мне один на один в степи какой-нибудь из этих тубянцов! Такой же подсиненный к жене вернется, как и я!
Обнимая Устина, Давыдов рассмеялся:
— Не горюй, рубаха — дело наживное, а синяк до свадьбы заживет.
— До твоей свадьбы? — ехидно вставил Устин.
— До первой в хуторе. Я-то пока еще ни за кого не сватался. А ты помнишь, что тебе дядюшка твой говорил в воскресенье? «У драчливого петуха гребень всегда в крови».
Давыдов улыбался, а про себя думал: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт!»
Но Устин обиженно отстранился:
— Тебе, Давыдов, хорошо зубы показывать, а у меня все ребра трещат. Ты смешками не отделывайся, а садись-ка верхи и езжай в Тубянской сено выручать. Эти две арбы мы отбили, а сколько они ночью увезли?! За свой грабеж пущай они наше сенцо прямо в хутор к нам доставят, вот это будет по справедливости. — И трудно раздвинул в улыбке распухшие, разбитые в кровь губы: — Вот поглядишь, сено привезут одни бабы, казаки ихние побоятся ехать к нам в гости, а воровать приезжали одни казаки, и подобрались такие добрые ребята, что, когда все четверо начали меня на кулаках нянчить, мне даже тошно стало… Не допускают меня до земли, не дают мне упасть, хучь слезьми умойся! Так с рук на руки и передавали, пока наши не подбегли. Я свою культю тоже не жалел, но ведь сила, говорят, солому ломит.
Устин попробовал еще раз улыбнуться, но только сморщился и рукою махнул:
— Поглядел бы ты, товарищ Давыдов, на нашего Любишкина и от смеха бы зашелся: бегает он кругом нас, приседает, будто кобель перед тем, как через забор прыгнуть, орет дурным голосом: «Бей их, ребята, в лоскуты! Бей, они на ушибы терпеливые, я их знаю!» А сам в драку не лезет, сдерживает себя. Дядюшка мой Осетров распалился, шумит ему: «Помоги же нам, валух ты этакий! Аль у тебя чирьи на спине?!» А Любишкин чуть не плачет и орет ему в ответ: «Не могу! Я же партейный и к тому ишо — бригадир! Бейте их в лоскуты, а я как-нибудь стерплю!» А сам все вокруг нас бегает, приседает и зубами от сдержанности скрипит… Ну, время зря проводить нечего, иди поскорей подзавтракай, а я тем часом конишку какого-нибудь тебе раздобуду, подседлаю, и поедем до бригады вместе. Старики наши сказали, чтобы я без тебя и на глаза к ним не являлся. Мы свое кровное сено дурноедам дарить не собираемся!