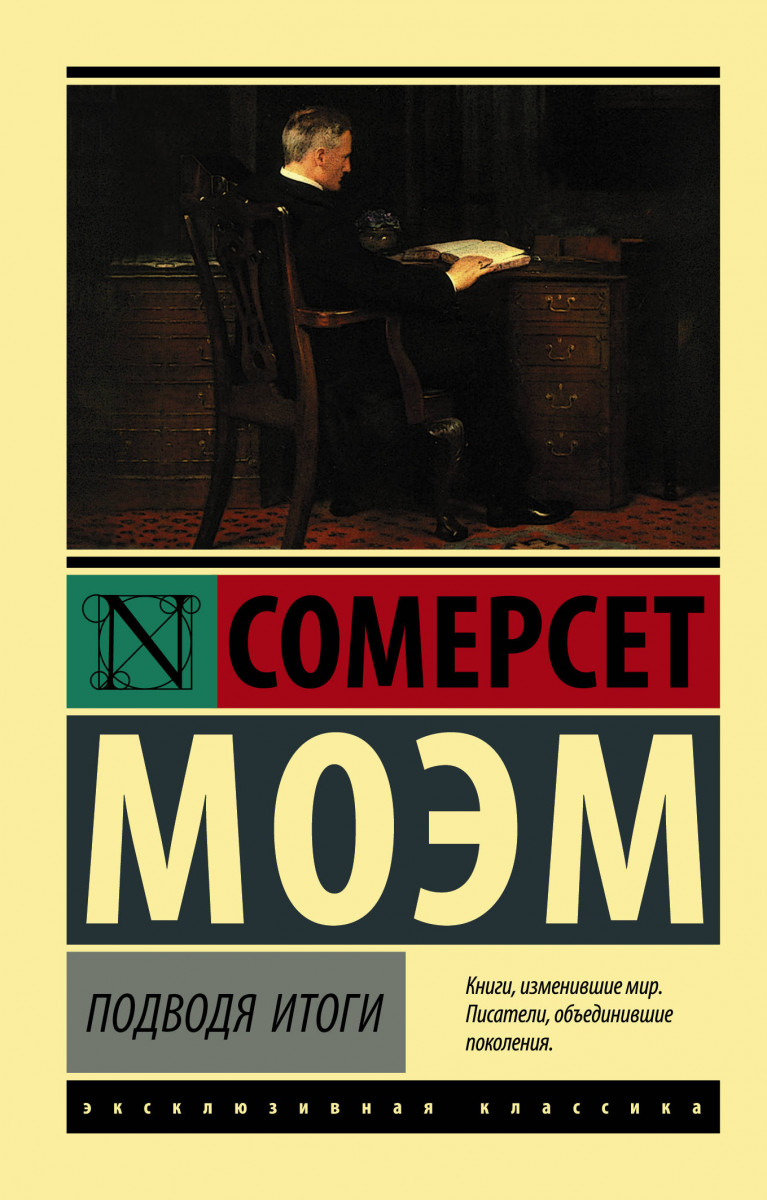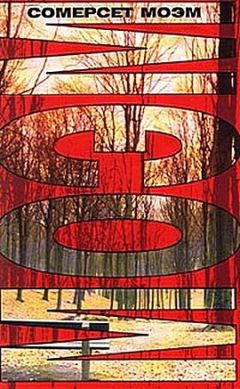смерти в жизнь».
Белла склонилась у кровати, а Герберт Филд, изнуренный и совсем слабый, с печальным выражением глаз, неестественно сиявших на белом изможденном лице, внимательно слушал. Теперь уже не было страха, осталась только покорность и надежда. Было видно: он всем сердцем верил, что ему обещают вечную жизнь и отпущение былых грехов. И Фрэнк, которого носило по волнам сомнений, завидовал этой непоколебимой уверенности.
— «Тело Господа нашего Иисуса Христа, за тебя преданное, да сохранит тело и душу твою в жизнь вечную: прими и вкуси сие в воспоминание, что Христос умер за тебя, и питайся Им в сердце твоем с верою и благодарением».
Умирающий юноша принял хлеб и вино, которые непостижимым образом готовят христианскую душу к путешествию в жизнь после смерти, и, казалось, они принесли ему несказанное облегчение. Измученное тело чудом расслабилось, воспаленный ум обрел спокойствие.
Декан прочел последние торжественные строки и, встав с колен, поцеловал юношу в лоб. Герберт был слишком слаб, чтобы говорить, но едва заметная тень улыбки тронула его губы. Наконец он тихо заснул. Близился вечер, и Фрэнк предложил вывести декана погулять на свежем воздухе.
— Ведь нет опасности, что он умрет прямо сейчас? — спросил старик.
— Не думаю. Вероятно, он доживет до утра.
Они вышли из сада на прилегающую территорию. Там было большое зеленое поле, где обычно мальчики играли в крикет, но сейчас они уехали на каникулы, и только карканье грачей, тяжело летавших над вязами, нарушало тишину. Рядом располагался собор, его серые стены гармонировали с розовым вечерним светом, и центральная башня в безупречном великолепии взмывала в небеса как воплощение человеческой силы, обращенной в камень. Вокруг теснились дома каноников. День выдался жаркий и ясный, но теперь легкий бриз обдувал лица двух джентльменов, что медленно брели по тропинке. Это было место, дышавшее умиротворением столь совершенным, что Фрэнк мечтательно пожалел, что его жизнь протекает не в таком приятном окружении. Время от времени колокола собора отбивали очередную четверть часа. Оба мужчины молчали, погруженные в свои мысли, и шли, пока заходящее солнце не предупредило их о приближении ночи. Когда они вернулись домой, мисс Ли сообщила, что Герберт проснулся и просит позвать декана. Она предложила, чтобы они сначала поели, а потом отправились к нему в комнату. Казалось, ему чуть лучше, и она спросила Фрэнка, осталась ли еще хоть какая-то надежда.
— Никакой. Это вопрос нескольких часов.
Когда они вошли в спальню, Герберт встретил их с улыбкой, видимо, с приближением конца его сознание прояснилось. Белла повернулась к ним:
— Отец, Герберт хотел бы, чтобы ты ему почитал.
— Я как раз собирался предложить это, — ответил декан.
Наступила ночь, и звезды рассыпались по небу. Через широко распахнутые оконные створки свежие запахи сада проникали в дом. Фрэнк сидел у окна, лицо его было в тени, чтобы никто его не видел, и наблюдал за юношей, который лежал неподвижно, и можно было подумать, будто он уже мертв. Белла поставила лампу так, чтобы декану было удобно читать. Когда он сел, свет упал на лицо молодого человека, и оно показалось ей прозрачным, как алебастр.
— Что почитать, Герберт?
— Что вам угодно, — прошептал молодой человек.
Декан взял Библию, лежавшую под рукой, и задумчиво полистал страницы, но тут к нему пришла одна странная мысль, и он отложил книгу. Аромат ночи, листьев и роз, привкус росы наполняли комнату неуловимой нежностью, как будто всем тут завладел легкий эфир поэтической фантазии. И интуитивно декан ощутил, что юноша, всю жизнь так страстно любивший мир за его чувственную красоту, должно быть, жаждет услышать иные слова, а не те, что были сказаны иудейскими пророками. Огромная любовь и сочувствие подняли декана с привычного уровня его призвания в плоскость высшего милосердия, и к нему пришло понимание, какое чтение станет для Герберта самым восхитительным утешением. Склонившись вперед, он прошептал что-то Белле, которая очень удивилась, но тем не менее встала, чтобы выполнить его просьбу. Она принесла ему маленькую книгу в голубом тканевом переплете, и он принялся медленно читать:
— «Чтоб обольстить Амариллис, я с песней иду, пока мои козы щиплют траву на холме, а Титир их пасет. Ах, Титир, мой нежно любимый друг, накорми же ты коз и отведи их воды напиться, Титир…»
Мисс Ли с изумлением подняла глаза и даже в тот момент не смогла удержаться, чтобы не усмехнуться с иронией, поскольку узнала идиллию Феокрита [63]. Очень серьезно, останавливаясь на образах, которые рисовало воображение на основе его классического образования, добрый декан прочитал очаровательный диалог, где подробно, с тщательной простотой декадентского века описывались амурные дела сицилийских пастухов. Герберт слушал с молчаливым удовлетворением, счастливая улыбка играла на его бледных губах. Теперь, когда его воображение любопытным образом стало работать быстрее в преддверии скорой смерти, он тоже представлял тенистые гроты и бурлящие ручьи Сицилии, слышал мучительные стоны страдающих от неразделенной любви пастухов, уклончивые ответы прекрасных дев, не желавших дарить сладкие поцелуи лишь для того, чтобы потом сдаться полностью и окончательно. Даже в переводе в этих строках чувствовалось дыхание чистой поэзии и сохранился дух жизни, не испорченный фальшью цивилизации, дух жизни, в которой для счастья хватало солнечного света и тени, весны и лета, аромата цветов.
Декан закончил и закрыл книгу. Воцарилась тишина, и все сидели и ждали в ночи. Слова, которые они только что услышали, казалось, принесли каждому удивительное спокойствие, сняв напряжение. И даже Белла, хотя ее муж лежал на смертном одре, испытала странное чувство благодарности за полноту и красоту жизни. Проходили часы, отмечаемые низким звоном соборных колоколов. Каждые пятнадцать минут они гремели с предупреждением, зловещим, но не пугающим, и всем казалось, будто покидающая тело душа ждет лишь наступления дня, чтобы отправиться в полет.
Тишина стояла удивительная, более прекрасная, чем мелодичная музыка. Она казалась живой, заполнив эту обитель смерти покоем, который не описать словами. Ночь выдалась темная, ведь все звезды померкли перед полной луной, но бледное светило пощадило дом, решив не заливать его холодным блеском, и оставило сад во мраке. Ни один порыв ветра не колыхал деревья, и ни малейший шелест листьев не нарушал умиротворенное спокойствие.
Потом воздух наполнился звуком, таким нежным и постепенно нараставшим, что никто толком не мог сказать, когда он возник. Можно было подумать, что он волшебным образом родился из тишины. Это была чистая высокая нота, пронзившая тишину, как свет пронзает воздух, и вдруг, с пугающей внезапностью, она разлилась песней, неистовой и страстной. Это был соловей. Безмятежная ночь звенела, отражая звук,