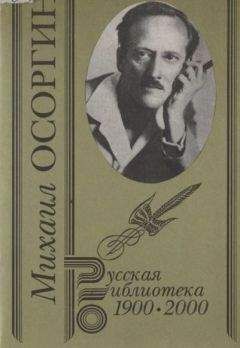«Уж какое там все сполна, — думает подполковник, кладя за колдуном земные поклоны. — Хоть бы самого-то поймать».
— «Будь ты, вор, проклят моим сильным заговором в землю преисподнюю, за горы Араратские, в смолу кипучую, в тину болотную, в плотину мельничную, в дом бездонный, в кувшин банный; будь ты прибит к притолке осиновым колом, иссушен суше травы, окривей, ошалей, одервеней, одурей, обезручей, оголодай, отощай, валяйся в грязи, с людьми не смыкайся и не своею смертию умри…»
— «Окривей, охромей, ошалей…» — повторяет подполковник Поросятников. «Раз допустил в канцелярию паршивого мужичонку, пусть уж все произойдет до конца». — «Одурей, обезручей…» («На кой мне черт, что он обезручеет и умрет не своей смертью! А не найдет его проклятый колдун — осмеет меня весь город!»). «А кто мой заговор возодолеет, и ему провалиться сквозь тартарары». («Этаких слов наворотил сукин сын, что и не выговоришь! Узнает губернатор — провалиться и мне в тартарары! Кто его знал, что придется класть поклоны? А вдруг найдет он вора? Хорошо бы было!»)
— «Будь ты вовеки веков на собаке рыжей, серой, красной, седой, белой, сиди и не сходи вовек, слово мое крепко».
За колдуном поднялись все. Громыхнув саблей, подполковник Поросятников обмахнул коленки и принял прежний важный вид, как будто ничего и не было… А колдун, повернувшись на одной ноге трижды посолонь, как бы запел:
— Вижу его, вижу, сера морда в жиру, ростом поближе к сажени, усы черны, борода лопатой, нос шилом, на лбу отметина. Пришел в нощи, поднялся невидимо, взял беззаконно, вышел незамечен. А живет он под городом на самой долгой улице, второй дом с угла, у врат собачка, у собачки нет клока шерсти, мещанин, не крестьянин, солдатский сын, то ли Васька, то ли Иван, чужой матери родной племянник. Хлопни по лбу — будет твой.
И, голос переменив на простой, с поклоном заявил колдун начальству:
— Боле ничего не видно, ваше скородье, окромя изреченного. Смотрел на воду, да, видно, вода нечиста, соль в ней не кипит. Это уж не от нас зависимо.
Однако примет было немало: и намек на местожительство, и звание, и из двух имен одно на выбор. Подполковник распорядился мужика пока посадить, а вора искать по живым следам. Из нижних чинов один заявил, что знает на городской окраине, на длинной улице, подходящего человечка, который в запрошлом году попался в краже да вышел обеленным. Именем Игнат, но при нужде сойдет и за Ивана и действительно приходится племяшом одной базарной торговке.
Когда забрали Игната, он клялся и божился, что ни к какой краже не причастен и живет честным извозом. Но, на горе его, был у него на лбу шрам-улика несомненная, отпираться трудно. Подполковник сам допрашивал его с перерывами — в перерывах с ним говорили в особой комнате два дюжих городовика. И хоть Игнат в сознанье не пришел, однако с каждым разом отпирался с меньшим жаром, а больше хотел взять слезой. И до полного выяснения был посажен в холодную при части.
По совести говоря, не было у подполковника Поросятникова окончательной уверенности, что взят им подлинный ночной вор. Главное — мало доказательств, если не считать родство с торговкой и старый шрам над левой бровью. Но все-таки хоть один по-настоящему заподозренный в этом сложном уголовном деле. Хоть какое-нибудь движение! И к губернатору он явился с видом исполнившего свой долг.
И вот тут случилось, что только он открыл рот для радостного доклада, как губернатор сказал:
— Кстати, по поводу этой кражи. Вышла прекурьезная история, напрасно наделавшая нам столько хлопот. Коробочка-то, оказывается, нашлась, завалилась где-то в комоде. Вечная история с рассеянными женщинами! Приятно все-таки, что так кончилось.
Колдуна драли медлительно, усердно и в присутствии самого полицеймейстера, который, чувствуя свою карьеру подмоченной, особо яростно приговаривал:
— Так тебе, сукин сын! Подбавь ему, ребята, в тину болотную и в кувшин банный! Будь ты вовеки на собаке рыжей, синей, полосатой! Осрамил, подлец! Дай ему еще раза-ошалей, окривей, одурей и провались ты, чертов колдун, в тартарары!
В одном малоизвестном памятнике мемуарной литературы дан материал для классического портрета ненавистника женщин. Беру сюжет, оставляя эпоху и меняя имя, впрочем, более ничем не замечательного мелкопоместного дворянина пятидесятых годов.
Платон Григорьевич стал мелкопоместным в порядке постепенности, потребив свои леса, луга и деревеньки на уплату житейских наслаждений. Живя в молодости в Петербурге, он время от времени вспоминал о своих владениях и приезжал продать хлеб, участок леса и нескольких крепостных, чтобы запастись деньжонками на предстоящий столичный сезон. Он был красив, блестящ, умел одеваться и говорить по-французски — ряд качеств, вполне достаточных, чтобы, порастреся свое состояние, поправить дела удачной женитьбой. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть его молодость, то, во всяком случае, не в пренебрежении женщинами, которые всегда и везде окружали его радужным венком. В Петербурге это были женщины светские, знакомство с которыми вызывало расходы, в деревне — милые соседки, девушки на выданье, из которых редкая не сказала бы ему «да» или хотя бы «переговорите с мамашей», если бы ему пришло в голову остепениться и стать хозяином, мужем и отцом.
К людям, не думающим о будущем, счастье и несчастье приходят внезапно. У дочери одного из его соседей была горничная Катя, девушка очаровательная, грамотная и изящнее многих барышень. В эту крепостную девушку влюбился Платон Григорьевич, и влюбился по-старинному: потеряв голову. Неизвестно, пользовался ли он взаимностью; это стало известным позже, пока же, в сущности, никакой взаимности и не требовалось, поскольку была возможность купить девушку у соседа за хорошие деньги. Купив, он увез ее в свою деревню и временно поступил в ее рабы, исполняя все ее желания и прихоти, но, конечно, оставив за собой господское право если не надушу, то на тело своей крепостной.
Одной прихоти своей возлюбленной Платон Григорьевич все же не исполнил: не захотел с ней повенчаться. Для почтенного дворянина это была бы непозволительная «мезальянс». Но он дал ей отпускную и сделал ее полной хозяйкой в доме. По-своему, по-барски, он ее действительно любил и радовался, когда у них родилась дочь. Столица была забыта, как и все прежние развлечения. Человек уже второй молодости был готов стать степенным помещиком и поправить свои дела заботливой хозяйственностью, выжимая из крестьян все, что еще из них выжималось.
Так они прожили несколько лет, — по-видимому без особых ссор, в гостях не бывая, у себя почти не принимая; только раза два в год Катя уезжала на недельку в имение своего прежнего помещика, где жили ее родные, а Платон Григорьевич — в губернский город по несложным своим делам.
Однажды, вернувшись из города, он не нашел дома ни Кати, ни ребенка, а только письмо, в котором беглянка объясняла, что предпочла уйти к человеку, любящему ее давно и достаточно, чтобы на ней жениться. Это был сын ее прежнего помещика, за смертью отца ставший самостоятельным и предложивший законный союз Кате, которую он давно любил. Забытый ею в поспешном бегстве сундучок с письмами подтвердил, что уже давно они сговаривались о счастливом времени, когда ей будет можно бросить своего «старого хрыча».
Что Платон Григорьевич еще не был стар — доказывала его страстная любовь. К этой любви прибавилась горечь оскорбления, и у него сделался удар. Через месяц он оправился, но теперь это был действительно седой и дряхлый старик, от прежней силы чувств сохранивший только способность к дикой ненависти.
С этой поры он больше не выходил из дому, а в дом его не допускалась ни одна женщина, кроме иногда навещавшей его сестры. Но это не значит, что он не думал больше о женщинах: только о них он думал и только о них говорил.
* * *
В молодые годы Платон Григорьевич игрывал в шахматы; теперь забавляется шашечной игрой с племянником Климушкой, парнишкой десяти лет. Садятся всегда у окна, из которого видно проходящих и проезжающих по дороге через владения Платона Григорьевича. Под окном на лавочке сидит дежурный казачок, здоровый малый лет двадцати, прозвищем Свистун.
Климушка очень любит проводить время с дядей и его обыгрывать, немножко плутуя, когда дядя, за игрой не следя, увлечется поучениями, всегда на одну тему:
— Ты вот еще мал, ничего не понимаешь. Ты думаешь, что всякая женщина — как твоя мамаша, а моя сестра. А я тебе говорю, что женщина, особливо пока молода, есть не иначе как жидовская гостиница для проезжающих.
— Вам ходить, дядюшка!
— Мне ходить… Сказано: кобыла не лошадь, баба не человек. Бабья вранья и на свинье не объедешь. Ходить-то ходить, а куда моя шашка делась?
— Я ее взял, дядюшка, вы подставили.