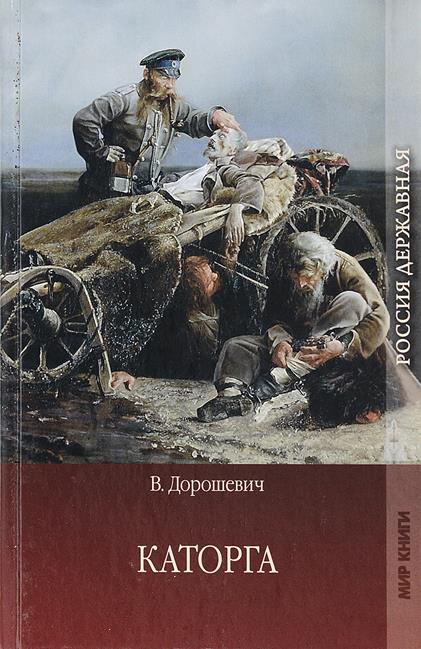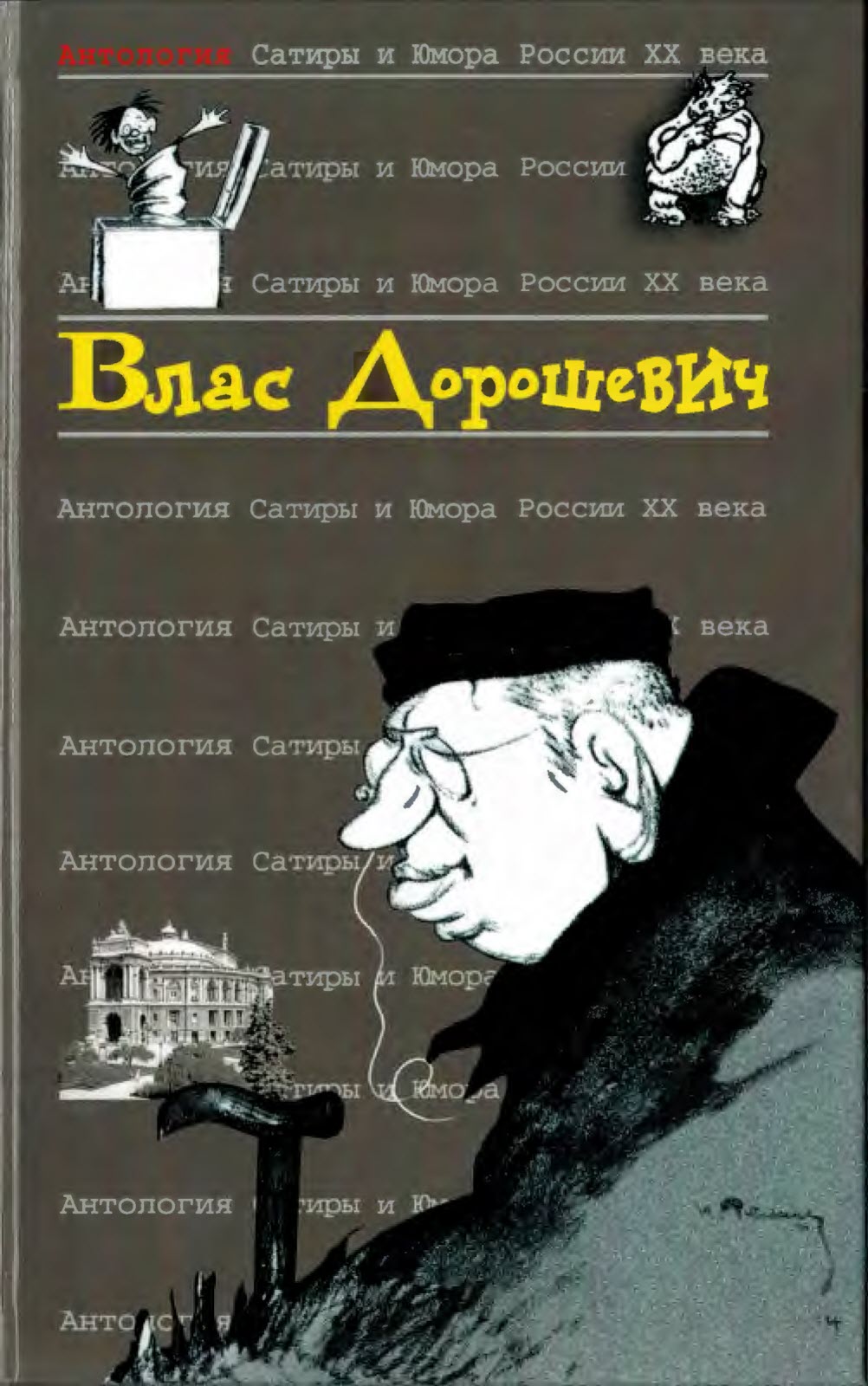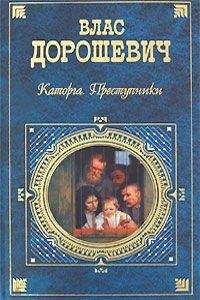- Чего же бояться-то? Бога бояться надо, а людей нечего. Ни я людям ничего не сделал ни люди мне. Чего ж мне их бояться?
Старик стал разговорчив и доверчив, теперь можно было ему предложить и самый щекотливый вопрос:
- А за что ты, дед, сюда попал? На Сахалин?
Старик в это время допил последнюю чашку чаю, подъел с ладони все хлебные крошки и перекрестился три раза.
- За ограбление святых Божьих церквей.
Признаюсь, я ожидал всего, кроме этого.
- Как так?
- А так.
- Как же это ты так? Спьяна, что ли?
- Зачем спьяна. Тверезый. Я с молодых годов ничем больше и не занимался! Все по церквам. Церквей тридцать обобрал, может, и больше. А тут на тридцать первой Богу не угодил, и попался.
- Как же это так... Ведь преступление-то какое...
- Какое ж преступление?
Старик посмотрел на меня строго и серьезно.
- Я никого не обижал. Я у людей ничего не брал. Я брал у Бога. Да у Бога-то брал то, что Ему не нужно. Бог мне и отдавал, а как взял, видать, то, что Богу нужно, - Он меня и настиг.
- Как же так, все-таки? Как, что Богу не нужно?
- Да ведь в церквах-то все какое? Жертвованное? А что ж ты думаешь, Богу-то всякая жертва угодна? Всякая?
Старик горячился.
- Другой мужик всю округу обдерет, нищими людей пустит, рубахи поснимает, да в церковь что пожертвует, думает, и свят! Угодна такая жертва Господу? Нет, брат, ты от трудов праведных да с чистым сердцем Господу Богу принеси, - вот это Ему жертва!
- Да ты-то почем знаешь, что Господу угодно, что нет?
- Этого нам знать не показано. А только по следствиям видать. Взял, ничего тебе за это не было, значит, Бог тебе, что Ему не надоть отдал. Всю жисть ничего не было. Какие дела с рук сходили, а тут и взял-то всего ничего, и споймали. Тронул, значит, что Богу Самому нужно, и постигнут. Значит, Богу кто от чистого сердца да от праведного труда принес, - "жертва совершенная" была. А я у Бога ее взял. За это теперь и казнись. Справедливость и премудрость Божия.
Мы помолчали.
- Как же ты это делал? Церкви ломал?
- Случалось, и ломал! - неохотно проговорил старик. - Всяко бывало. Только я этого не люблю. Зачем храм Божий ломать? Нам этого не полагается. Страшно, да и застичь скорей могут. А так, с молитвой да тихохонько, оно и лучше. Останешься апосля авсенощной, спрячешься где-нибудь и замрешь. А как церкву запрут, и выйдешь. Пред престольными образами помолишься, чтоб Господь Бог просветил, не взял бы чего, что Ему угодно. К образам приложишься и берешь, что по душе. А утром, к утрене церкви отворят, темно, все сонные, - незаметно и уйдешь.
- И так всю жизнь?
- И этак цельную жисть.
- Ну, а этот образок, что в уголке висит, это тоже, может быть?
- Покров Пресвятой Богородицы-то? Говорю ж тебе, два года тому в посту был. Там, на кладбище и взял. Со креста снял.
- Как же это так? И могилу, последнее упокоенье...
- А что ж там образу быть? На что ему под дождем-то мокнуть? Еще татарва возьмет горшки у печки покрывать. "Дощечка!" им все дощечка! Народец! А тут образ в своем месте. Как порядок велит. Соблюдается.
- Ну, а здесь ты, что ж, оставил старое? Здешних церквей уж не трогаешь?
- А что в здешних церквах взять-то? Народ-то здесь какой? Не знаете? Нешто здешний народ о Боге думает? В церкву он что понесет! Да он на водку лучше пропьет! Бога здешний народ забыл, и их Господь Бог позабыл! У них Бог-то нищим останется, и они за это за самое голые ходят! Народ! Глаза бы мои их не видели! Оттого и в пост-то не хожу, через народ, через этот. Чтоб не видать их. Грех один.
И старый святотатец даже отплевывался, говоря о забывшем Бога народе.
- Чудной старик! - сказал Бушаров, когда мы ехали из сторожки. - Но только богобоязненный, страсть! Его все так и знают.
Аристократ каторги
- Извините, - сказал мне однажды Пазульский, - сегодня я не могу пойти к вам в контору поговорить. Нога болит. Вы не хотите ли, может быть, здесь поговорим?
- Здесь? Неудобно. При посторонних. Народу много!
- Эти? - Пазульский кивнул головой на каторжан. - Не извольте беспокоиться. Ребята, выйдете-ка во двор, мне с барином поговорить надо.
И все девятнадцать человек, содержавшихся в одном "номере" с Пазульским, - кто сидел в это время, кто лежал, кто играл в карты, - встали и, позвякивая кандалами, один за другим, гуськом, покорно вышли.
А среди них был Полуляхов, сахалинская знаменитость Митрофанов, только что пойманный после необычайно дерзкого побега, Мыльников-Прохоров, перерезавший на своем веку человек двадцать, двое из Владивостока, приговоренные к смертной казни и всего две недели тому назад помилованные на эшафоте, Шаров, отчаяннейшая башка в целом мире, совершивший прямо невероятный побег: среди белого дня он спрыгнул с палей прямо на часового, вырвал у него ружье и бросился в тайгу, Школкин, ждавший себе смертной казни за убийство, Балданов, зарезавший поселенца за шестьдесять копеек, и другие.
И все эти люди часа три проходили по двору, пока Пазульскому угодно было беседовать со мною о разных предметах.
Я собирался ехать в Рыковское. Узнав об этом, Пазульский предложил мне:
- Хотите, я вам дам рекомендательные письма? Там, в тюрьме, есть люди, которые меня знают.
Он дал мне несколько записок, в которых просил принять меня хорошо, сообщал, что я человек "безопасный" и с начальством ничего общего не имею.
Рекомендация Пазульского сослужила больше службы, чем все распоряжения показать мне все, что я пожелаю видеть. Рекомендации Пазульского было довольно, чтоб я приобрел полное доверие тюрьмы.
Случай помог мне при первом же знакомстве приобрести расположение и даже заслужить признательность Пазульского.
Он спросил меня:
- Говорите ли вы по-английски?
Я отвечал, что да. И Пазульский вдруг заговорил на каком-то необычайно диком, неслыханном языке.
Про него можно было сказать, что он по-английски "говорит", как пишет.
Он выучился самоучкой и произносил каждую букву так, как она произносится по-французски.
Выходило черт знает что!
Минута была критическая.
Безграмотная каторга чрезвычайно ценит всякое знание.
Вся тюрьма воззрилась: ну-ка, действительно ли Пазульский и по-английски говорит? Не врет ли?
На карте стояло самолюбие и авторитет Пазульского.
Авторитет, купленный страшной, дорогою ценою.
Стоило мне улыбнуться, и все пошло бы на смарку. "Врет, хвастается!" Боящаяся и ненавидящая Пазульского за эту боязнь каторга расхохоталась бы над Пазульским. А это был бы конец.
Я призвал на помощь всю свою сообразительность. Рисовал в воображении буквы, которые произносил Пазульский, складывал из них слова, угадывал, что он хочет сказать, и отвечал ему на том же варварском языке, произнося все буквы.
Так мы обменялись несколькими фразами.
Надо было видеть, с каким глубоким почтением слушала каторга этот разговор на неизвестном языке.
Затем, встретясь один на один, Пазульский спросил меня:
- Так я говорю по-английски?
- Откровенно говоря, Пазульский, вы совсем не умеете говорить. Вас никто не поймет.
- Я и сам это думал! А ведь сколько лет я учился этому проклятому языку в тюрьме! - вздохнул Пазульский, затем улыбнулся. - Спасибо вам за то, что меня тогда не выдали! Смеяться бы стали, а мне это не годится... Спасибо, что поддержали.
И он крепко несколько раз пожал мне руку.
В чем заключается это обаяние и эта власть Пазульского над каторгой?
Прежде всего, - его все боятся потому, что он сам ничего не боится. И он это доказал!
Во-вторых, боятся его прогневить, чтобы Пазульский "чего не сказал". Это типичнейший из "Иванов", человек слова: что он сказал, то он и сделает, - он и это доказал.