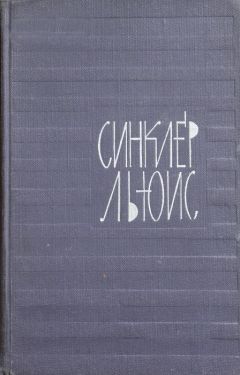После всего лишь пятнадцатиминутного совещания, на котором были обсуждены ее чулки, ее ребенок, ее отдельная спальня, ее пристрастие к музыке, ее давнишний интерес к Гаю Поллоку, предположительные размеры ее жалованья в Вашингтоне и все ее высказывания со времени возвращения в город, верховный совет постановил разрешить Кэрол Кенникот жить на свете и перешел к слушанию нового анекдота Хикса о коммивояжере и старой деве.
IV
По каким-то совершенно загадочным для Кэрол причинам Мод Дайер казалась недовольной ее приездом. У «Веселых семнадцати» Мод с нервным смехом сказала:
— Ну, я думаю, что работа на войну была для вас отличным предлогом, чтобы не возвращаться и веселиться вовсю. Хуанита, не находите ли вы, что мы должны заставить Кэрри рассказать нам о своих знакомствах с офицерами в Вашингтоне?
Все задвигались и с интересом посмотрели на Кэрол. Но Кэрол спокойно глядела на них. Их любопытство показалось ей естественным и безразличным для нее.
— Да, да. Непременно. Как-нибудь, — скучающим тоном сказала она.
Тетушку Бесси Смейл она больше не принимала настолько всерьез, чтобы бороться с ней за свою независимость. Она поняла, что тетушка Бесси вовсе не хочет быть назойливой, что она только стремится быть полезной Кенникотам. Так Кэрол познакомилась с трагедией старости, величайшее горе которой не в недостатке сил, а в том, что она не нужна молодости, в том, что ее так щедро предлагаемые любовь и житейская мудрость со смехом отвергаются. Кэрол научилась угадывать мысли старой тетки. Она знала теперь, что, когда та приносит ей банку повидла, у нее надо попросить рецепт его изготовления: этого она ждет от своей молодой племянницы. Теперь сам ум тетушкиных вопросов мог только сердить ее, но не угнетать.
Ее не повергла в отчаяние даже миссис Богарт, которая объявила:
— Теперь, когда мы добились запрещения алкоголя, самое важное, мне кажется, заняться не курильщиками, а теми, кто не соблюдает день субботний. Надо переловить всех нарушителей закона, которые играют в бейсбол и ходят по воскресеньям в кино.
В одном только тщеславие Кэрол было уязвлено: мало кто расспрашивал ее о Вашингтоне. Те же люди, которые с жадностью и восхищением слушали Перси Брэзнагана, совершенно не интересовались ее рассказами. А она-то воображала, что будет в Гофер-Прери одновременно еретичкой и возвратившейся героиней! Она думала об этом спокойно и с веселой насмешкой; но все равно ей было больно.
V
В августе у нее родилась девочка. Кэрол не могла решить, кем будет ее дочь: выдающейся феминисткой, или женой ученого, или тем и другим вместе. Но она уже выбрала для нее Вассар-колледж и трикотиновое платье с черной шляпкой для первого курса.
VI
Хью за завтраком был болтлив. Он хотел поделиться впечатлениями от уличных игр.
— Сиди тише. Ты слишком много трещишь! — прикрикнул на него Кенникот.
Кэрол вскипела.
— Не говори с ним так! Почему ты не выслушаешь его? Он рассказывает что-то интересное.
— В чем дело? Неужели ты хочешь, чтобы я тратил время на его болтовню?
— Отчего же нет?
— Прежде всего ему следует немного привыкнуть к дисциплине. Пора уже начать воспитывать его.
— Я научилась от него дисциплине и сдержанности гораздо больше, чем он от меня.
— Что это такое? Новомодная теория обращения с детьми, усвоенная тобой в Вашингтоне?
— Может быть. Думал ли ты когда-нибудь о том, что дети — тоже люди?
— Безусловно. Поэтому я и не намерен терпеть, чтобы он только один и разговаривал за столом.
— Само собой разумеется. И у нас есть свои права. Но я хочу вырастить из него человека. У него не меньше мыслей, чем у нас с тобой, и я хочу, чтобы он развивал их, а не принимал на веру взгляды Гофер-Прери. Теперь моя главная забота — не позволять ни себе, ни тебе «воспитывать» его.
— Ладно, не будем из-за этого ссориться. Но избаловать его я не дам.
Кенникот забыл об этом через десять минут; она забыла тоже — на этот раз.
VII
Кенникоты и Кларки поехали на север, охотиться на уток на перешейке между обоими озерами. Стоял осенний день, весь окрашенный в голубые и медные тона.
Кенникот подарил Кэрол легкое охотничье ружье. Это был ее первый урок. Она училась сосредоточиваться, не визжать при выстреле и, прицеливаясь, пользоваться мушкой на конце ствола. Кэрол сияла; она готова была поверить Сэму, убеждавшему ее, что это она убила чирка, по которому оба они выстрелили одновременно.
Она сидела на берегу заросшего камышом озера и отдыхала, равнодушно разговаривая с миссис Кларк. Тихо опускались сумерки. Позади тянулось темное болото. Пахло свежей землей. Озеро было гранатовое и серебряное. Голоса мужчин звонко раздавались в прохладном воздухе.
— Бери левее! — протяжно крикнул Кенникот. Высоко над головами, вытянувшись в линию, быстро летели три утки.
Грянули ружья, и одна из птиц кувырком полетела вниз. Мужчины взялись за весла, и лодка, скользнув по блестящей, как вороненая сталь, поверхности озера, исчезла в камышах. Оживленные голоса и мерный плеск весел долетали до Кэрол из мглы. В небе огненная равнина полого спускалась к безмятежной гавани. Вот она растаяла. Озеро было теперь белое, как мрамор.
— Ну, старушка, теперь самая пора домой, а? — крикнул Кенникот. — Аппетит нагуляли изрядный!
— Я сяду вместе с Этел, — сказала Кэрол, когда они подошли к машине.
В первый раз она назвала миссис Кларк просто по имени, в первый раз Кэрол, остепенившаяся обитательница Главной улицы, охотно расположилась на заднем сиденье.
«Я голодна; хорошо так проголодаться!» — думала она в пути.
Она взглянула через тихие поля на запад. Ей мерещились непрерывные просторы до Скалистых гор, до Аляски; страна, которая достигнет беспримерного величия, когда другие государства одряхлеют. Но она знала, что до этого времени сотни поколений таких Кэрол будут стремиться вперед и погибать в трагедии, в которой нет ни мантий, ни торжественных песнопений, — в неизбежной будничной трагедии борьбы с косностью.
— Пошли-ка завтра вместе в кино. Идет такая увлекательная картина! — предложила Этел Кларк.
— Хорошо. Я хотела прочесть одну новую книгу, но… уж ладно, пойдем! — ответила Кэрол.
VIII
— Несносные люди! — со вздохом говорила Кэрол Кенникоту. — У меня появилась мысль о ежегодном общем празднике, чтобы весь город забывал на один день свои дрязги и чтобы люди вышли на улицу, веселились, развлекались, устраивали пикники, танцы. Но Берт Тайби — и зачем только вы избрали его в мэры! — взял и перехватил мою идею. Он тоже хочет устраивать общий праздник, но непременно с выступлением какого-нибудь политикана. А мне как раз вот этой ходульности и хотелось избежать. Он спросил мнения Вайды, и она, конечно, согласилась с ним.
Кенникот отнесся к ней со вниманием, заводя часы и поднимаясь по лестнице.
— Д-да, тебе, конечно, неприятно, что Берт влез в это дело, — сочувственно сказал он. — И много ты собираешься хлопотать с этим праздником? Не надоело тебе волноваться, суетиться, что-то все время придумывать?
— Надоело? Да я еще только начинаю. Взгляни! — Она подвела его к двери детской и указала на растрепанную русую головку дочки. — Видишь ты вот это на подушке? Ты знаешь, что это такое? Это бомба, которой предстоит взорвать обывательское самодовольство! Если бы вы, консерваторы, были мудры, вы не арестовывали бы анархистов; вам следовало бы арестовать всех этих детей, спящих в своих колыбельках. Подумай, чего только этот ребенок не увидит, чего только не натворит, прежде чем умрет в двухтысячном году! Он может увидеть экономическое объединение всего мира, может увидеть воздушные корабли, отправляющиеся на Марс.
— М-м-да, перемены, наверно, будут, — зевнул Кенникот.
Она присела на край его кровати, а он в это время рылся в комоде в поисках воротничка, которому полагалось быть там, но которого постоянно не оказывалось на месте.
— Я не отступлюсь никогда! И я счастлива. Но этот случай с праздником только показывает всю глубину моего поражения.
— Проклятый воротничок, куда его черти унесли! — пробормотал Кенникот и добавил громче: — Да, по-видимому, ты… Я плохо расслышал; что ты сказала, дорогая?
Она взбила ему подушки, заправила простыню и при этом думала вслух:
— Но в одном я одержала победу: какие бы неудачи ни выпали на мою долю, я никогда не насмехалась над собственными идеалами, не притворялась, будто я стала выше их. Я по-прежнему считаю, что Главная улица недостаточно красива! Я по-прежнему не признаю, что Гофер-Прери значительнее и великодушнее Европы! Я не признаю, что такого занятия, как мытье посуды, довольно, чтобы удовлетворить всех женщин! Я, может быть, плохо боролась, но я сохранила мою веру.