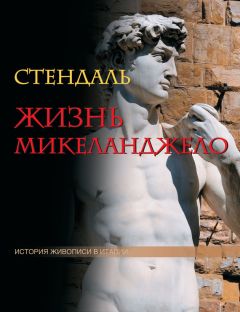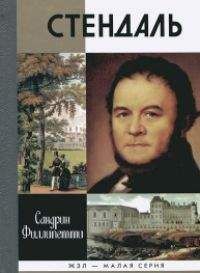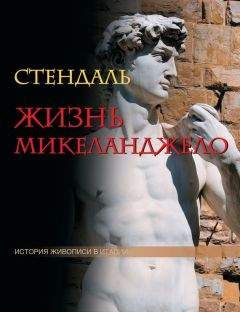«Отец,
Все общественные узы порваны между нами, остались только те, что связывают нас кровно. После моего мужа Вы и теперь и всегда будете для меня самым дорогим существом на свете. Глаза мои застилаются слезами; я думаю о горе, которое причиняю Вам, но чтобы стыд мой не стал общим достоянием, чтобы у Вас нашлось время подумать и поступить так, как Вы найдете нужным, я не могу долее медлить с признанием, которое я обязана сделать. Если Ваша привязанность ко мне, которая, по-моему, не знает предела, позволит Вам уделить мне небольшой пенсион, я уеду, куда Вы прикажете, — в Швейцарию, например, — вместе с моим мужем. Имя его столь безвестно, что ни одна душа не узнает дочь Вашу под именем госпожи Сорель, снохи верьерского плотника. Вот оно, это имя, которое мне было так трудно написать. Мне страшно прогневить Вас, как бы ни был справедлив Ваш гнев, я боюсь, что он обрушится на Жюльена. Я не буду герцогиней, отец, и я знала это с той минуты, как полюбила его; потому что это я полюбила его первая, я соблазнила его. От Вас, от предков наших унаследовала я столь высокую душу, что ничто заурядное или хотя бы кажущееся заурядным на мой взгляд не может привлечь моего внимания. Тщетно я, желая Вам угодить, пыталась заинтересоваться господином де Круазенуа. Зачем же Вы допустили, чтобы в это самое время рядом, у меня на глазах, находился истинно достойный человек? Ведь Вы сами сказали мне, когда я вернулась с Гиер: „Молодой Сорель — единственное существо, с которым можно провести время без скуки“; бедняжка сейчас — если это только можно было бы себе представить — страдает так же, как и я, при мысли о том горе, которое принесет Вам это письмо. Не в моей власти отвратить от себя Ваш отцовский гнев, но не отталкивайте меня, не лишайте меня Вашей дружбы.
Жюльен относился ко мне почтительно. Если он и разговаривал со мной иногда, то только из глубокой признательности к Вам, ибо природная гордость его характера не позволяла ему держаться иначе, как официально, с кем бы то ни было, стоящим по своему положению настолько выше его. У него очень сильно это врожденное чувство различия общественных положений. И это я, — и я признаюсь в этом со стыдом Вам, моему лучшему другу, и никогда никто другой не услышит от меня этого признания, — я сама однажды в саду пожала ему руку.
Пройдет время, — ужели и завтра, спустя сутки, Вы будете все так же гневаться на него? Мой грех непоправим. Если Вы пожелаете, Жюльен через меня принесет Вам уверения в своем глубочайшем уважении и в искренней скорби своей оттого, что он навлек на себя Ваш гнев. Вы его больше никогда не увидите, но я последую за ним всюду, куда он захочет. Это его право, это мой долг, он отец моего ребенка. Если Вы по доброте своей соблаговолите назначить нам шесть тысяч франков на нашу жизнь, я приму их с великой признательностью, а если нет, то Жюльен рассчитывает устроиться в Безансоне преподавателем латыни и литературы. С какой бы ступени он ни начал, я уверена, что он выдвинется. С ним я не боюсь безвестности. Случись революция, я не сомневаюсь, что он будет играть первую роль. А могли ли бы Вы сказать нечто подобное о ком-либо из тех, кто добивался моей руки? У них богатые имения? Но это единственное преимущество не может заставить меня плениться ими. Мой Жюльен достиг бы высокого положения и при существующем режиме, будь у него миллион и покровительство моего отца…»
Матильда знала, что отец ее человек вспыльчивый, что ему надо дать остыть, и исписала восемь страниц.
«Что делать? — рассуждал сам с собой Жюльен, прогуливаясь в полночь в саду, в то время как г-н де Ла-Моль читал это письмо. — Каков, во-первых, мой долг, во-вторых, мои интересы? То, чем я обязан ему, безмерно; без него я был бы жалким плутом на какой-нибудь ничтожной должности, да, пожалуй, еще и не настолько плутом, чтобы не навлечь на себя ненависть и презрение окружающих. Он сделал из меня светского человека. В силу этого мои неизбежные плутни будут, во-первых, более редки и, во-вторых, менее гнусны.
А это стоит больше, чем если бы он подарил мне миллион. Я обязан ему и этим орденом, и моими якобы дипломатическими заслугами, которые возвышают меня над общим уровнем.
Если он сидит сейчас с пером в руке и намеревается предписать мне, как я должен вести себя, — что он напишет?..»
Тут размышления Жюльена были внезапно прерваны старым камердинером г-на де Ла-Моля.
— Маркиз требует вас сию минуту, одетого, неодетого, все равно.
И, провожая Жюльена, камердинер добавил вполголоса:
— Берегитесь, господин маркиз прямо рвет и мечет.
Шлифуя этот алмаз, неискусный гранильщик сточил его самые искрометные грани. В средние века — да что я говорю, — еще при Ришелье француз обладал способностью хотеть.
Мирабо.
Жюльен застал маркиза в бешенстве; должно быть, в первый раз в жизни этот вельможа вел себя непристойно: он обрушился на Жюльена потоком площадной брани. Наш герой был изумлен, уязвлен, но его чувство признательности к маркизу нимало не поколебалось. «Сколько великолепных планов, издавна взлелеянных заветной мечтой, — и вот в одно мгновение несчастный человек видит, как все это рассыпается в прах! Но я должен ему ответить что-нибудь, мое молчание только увеличивает его ярость». Ответ подвернулся из роли Тартюфа.
— Я не ангел… Я служил вам верно, и вы щедро вознаграждали меня… Я полон признательности, но, посудите, мне двадцать два года… В этом доме меня только и понимали вы сами и эта прелестная особа…
— Гадина! — заорал маркиз. — Прелестная, прелестная! Да в тот день, когда вам пришло в голову, что она прелестна, вы должны были бежать отсюда со всех ног!
— Я и хотел бежать: я тогда просил вас отпустить меня в Лангедок.
Маркиз от ярости метался по комнате, наконец, совсем обессилев, раздавленный горем, упал в кресло. Жюльен слышал, как он пробормотал про себя: «И ведь это вовсе не злой человек…»
— Нет, никогда у меня не было зла против вас! — воскликнул Жюльен, падая перед ним, на колени.
Но ему тут же стало нестерпимо стыдно этого движения, и он тотчас поднялся.
Маркиз был словно в каком-то беспамятстве. Увидав, как Жюльен бросился на колени, он снова принялся осыпать его неистовыми ругательствами, достойными разве что кучера. Быть может, новизна этих крепких словечек немного отвлекала его.
«Как! Дочь моя будет именоваться „госпожа Сорель“? Как! Дочь моя не будет герцогиней?» Всякий раз, как эти две мысли отчетливо возникали в его сознании, маркиза словно всего переворачивало, и он мгновенно терял способность владеть собой. Жюльен боялся, что он вот-вот бросится его бить.
В минуты просветления, когда маркиз словно осваивался со своим несчастьем, он обращался к Жюльену с довольно разумными упреками.
— Надо было бежать, сударь… — говорил он ему. — Ваш долг был исчезнуть отсюда… Вы вели себя, как самый последний негодяй…
Тут Жюльен подошел к столу и написал:
«Жизнь давно уже стала для меня невыносимой, и я кладу ей конец. Прошу господина маркиза принять уверения в моей безграничной признательности, а также мои извинения за то беспокойство, которое смерть моя в его доме может ему причинить».
— Прошу господина маркиза пробежать эти строки… Убейте меня, — сказал Жюльен, — или прикажите вашему камердинеру убить меня. Сейчас час ночи, я буду ходить там по саду, у дальней стены.
— Убирайтесь вон! К черту! — крикнул ему вслед маркиз.
«Понимаю, — подумал Жюльен, — он ничего не имел бы против, если бы я избавил его лакея от необходимости прикончить меня… Нет, пусть убьет, пожалуйста, это удовлетворение, которое я ему предлагаю… Но я-то, черт возьми, я люблю жизнь… Я должен жить для моего сына».
Эта мысль, которая впервые с такой ясностью представилась его воображению, поглотила его всего целиком, после того как он в течение нескольких минут бродил по саду, охваченный острым чувством, грозившей ему опасности.
Эта столь новая для него забота сделала его осмотрительным. «Надо с кем-нибудь посоветоваться, как мне вести себя с этим неистовым человеком… Он сейчас просто лишился рассудка, он на все способен. Фуке от меня слишком далеко, да и где ему понять, что делается в душе такого человека, как маркиз?
Граф Альтамира… А можно ли поручиться, что он будет молчать об этом до могилы? Надо подумать о том, чтобы моя попытка посоветоваться с кем-то не привела к каким-нибудь последствиям и не осложнила еще больше моего положения. Увы! У меня, кажется, никого не остается, кроме мрачного аббата Пирара… Но при этой его янсенистской узости взглядов… Какой-нибудь пройдоха-иезуит, который знает свет, мог бы мне быть гораздо полезней… Пирар, да он способен прибить меня, едва только я заикнусь о моем преступлении!»