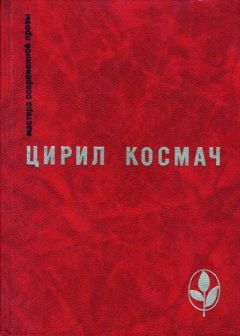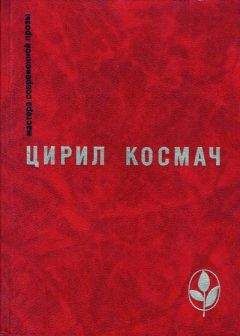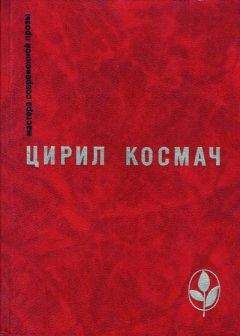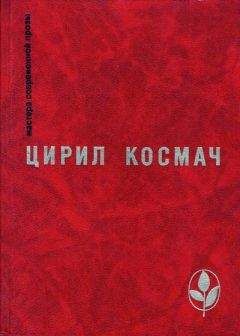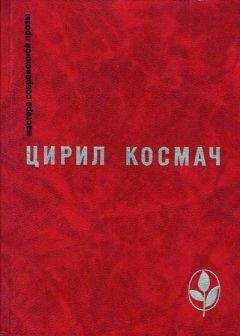— Божорно-босерна! — озорно загремел Лука, отдавая ему воинскую честь большой костью, которую он приставил к правому виску.
Тантадруй молча опустился на скамейку, сжал коленями свою палку — весь воплощение горя. Долго сидел он так, не делая попыток принять участие в трапезе. Он ждал, что его спросят, как закончилось дело у священника. Но все молчали, и, не дождавшись вопросов, он с упреком произнес:
— Тантадруй, она оказалась ненастоящая!
— Если шла кверху, значит, ненастоящая, — сказал Лука, отшвыривая обглоданную кость и нагибаясь за другой.
— Тантадруй, — дурачок повысил голос, — я сказал, что найду гадюку, она меня укусит и я умру.
Лука и Русепатацис были слишком заняты делом, чтоб обратить внимание на его слова, а Матиц Ровная Дубинка, ощущая потребность высказаться, отнял от своих толстых губ кость и ласково повторил:
— И я умру…
— Тантадруй, теперь я не умру! — покачал головой дурачок, поворачивая к нему свое печальное сморщенное личико.
— Не умру! — сокрушенно кивнул Матиц и с чавканьем принялся высасывать костный мозг.
Пышнотелая служанка Пепа, женщина уже не первой молодости, вышла из подвала с кувшином золотистого вина. Остановившись возле несчастных, она загляделась на сильную фигуру Матица. А тот, отняв ото рта толстую кость, которую держал обеими руками, в страхе жался к стене и, окаменев от ужаса, не сводил с нее глаз, словно зачарованный змеей.
— Эх, ты б и меня еще поглодал! — задиристо рассмеялась служанка.
— Меня поглодал! — оробело кивнул Матиц, прижимаясь к стене, словно хотел слиться с нею. Он боялся женщин с давних дней своей юности, когда однажды парни напоили его пьяным и после этого он напал на бродяжку Катру. Жандармы застали его на месте преступления и, дабы на веки вечные отучить от приставаний к женщинам, три дня продержали в темной камере, потом, всыпав как следует, окатили ледяной водой, да еще пригрозили, что на всю жизнь засадят в тюрьму, если он хоть раз тронет пальцем какую-нибудь женщину.
— Ты меня боишься? — продолжала разбитная Пепа, протягивая полную руку, чтоб погладить его.
— Боишься! — поспешно согласился Матиц, отодвигаясь в сторону.
— Ох, да ведь это я тебя боюсь, чего ж тебе бояться! — добродушно засмеялась женщина.
— Чего ж тебе бояться! — благодарно посмотрел на нее Матиц.
Она погладила его по щеке, а он устремил на нее огромные мутные глаза, в которых плясали светлые искорки счастья.
— Эх ты, бедолага! — растроганно вздохнула женщина. Она покачала головой, вытерла руку о передник, потом повернулась к Луке и довольно добродушно, хотя и чуть свысока, спросила: — Ну, а ты как? Все еще кверху?
— Кверху? — оскорбленно загремел Лука. — Книзу! — Не выпуская кости, он резким движением руки наглядно показал — куда: вниз, немного по земле, а потом прямо в землю!
— Тьфу! — презрительно фыркнул фурланец, выбирая новую кость. — Raus е patacis, репа и картошка!
— Ну, ты-то помалкивай, пока я тебе в самом деле не принесла репы с картошкой! — пригрозила Пепа. — Лука верно говорит! — пригорюнилась она. — Я вот тоже вскоре пойду книзу, немного по земле, а потом не спеша и в землю.
— Не не спеша! Прямо! — загремел Лука, костью указывая в землю.
— Ясное дело! — вздохнула Пепа, громко высморкалась в передник и вытерла набежавшие слезы. — Прямо! Прямо в яму!
— Тантадруй, в яму? — почти с завистью отозвался дурачок. — Погоди, пока твой час пробьет. Каждый должен терпеть, прежде чем лечь в могилу!
— Ты где это слыхал? — удивилась Пепа, очевидно потрясенная его словами.
— Тантадруй, мне жупник сказал.
— Ах, жупник…
— Тантадруй, а ты уже терпела? — живо спросил дурачок.
— Терпела, да, видно, недостаточно! — Пепа горько усмехнулась.
— Тантадруй, а я нет! — грустно вздохнул он. — А как бы мне хотелось потерпеть, чтоб я мог лечь в могилу!
— Ох ты, счастливая твоя душа, несчастная! Перестань, перестань! — воскликнула Пепа и снова взялась за передник, чтобы утереть глаза. — И чего я с дураками связалась! До слез довели! — вдруг рассердилась она, решительно засучила рукава и скрылась в широкой темной подворотне.
Тантадруй заглянул в трактир, где стоял гул, как в потревоженном улье, и опять заныл:
— Тантадруй, как я теперь умру?
— Возьми кость, и божорно-босерна! — неожиданно выкрикнул Лука, и Тантадруй, невольно вздрогнув, послушно наклонился над горшком.
Некоторое время они сидели и громко высасывали кости. Когда все кончилось, Лука встал и потянулся.
— Ребята, как стемнеет, все к Хотейцу спать! — повелительно произнес он. — А теперь божорно-босерна! — Он отсалютовал и отправился на ярмарку. Русепатацис и Матиц Ровная Дубинка последовали за ним.
Тантадруй остался сидеть на скамье перед кучей обглоданных костей. Когда двери трактира распахивались, его окатывала беспокойная буйная волна музыки и песен. Но он не двигался; в печали своей он был незыблем, как скала. Мимо него проходили хозяева и батраки, купцы и перекупщики, старые и молодые; непослушные ноги несли их за угол и снова вели обратно. Одни грубо ругали дурачка, иные бросали ласковое слово, третьи молча совали в руку мелочь, четвертые хлопали по плечу и грустно замечали:
— Хорошо тебе, тронутому!
Наконец вышел Найденыш Перегрин. Возвратившись своим чередом из-за угла, он остановился рядом с Тантадруем и тряхнул его за плечо.
— Тантадруй, она была ненастоящая! — запричитал дурачок. — Я не умру!
— О, умрешь! Умрешь! — Перегрин встряхнул его сильнее, колокольцы дружно зазвенели. — А теперь пошли со мной!
— Тантадруй, а ты теперь споешь? — обрадовался несчастный.
— Ясное дело!
Перегрин привел его в трактир и усадил возле печки. Здесь было тепло и весело. Люди словно сошли с ума. Лица у всех были потные, глаза влажные и блестящие. Все громко говорили, смеялись, наливали в стаканы золотистое вино и с полными стаканами приставали к Перегрину, упрашивая его поиграть и спеть. Но парень только улыбался своей прекрасной улыбкой и отбивался длинными руками.
— Доминик! — завопил вдруг Округличар, человек необычайной физической силы, уже крепко подвыпивший, и повернулся к стражмейстеру, который восседал за отдельным столом и, обмакивая толстый палец в винную лужу, выводил на столе узоры. Над головой Доминика висели большие стенные часы, и тяжелый их маятник проходил над самой его лысиной, сверкавшей так, словно ее специально вычистили и оттерли под праздник. Округличар заметил, что черные думы овладели жандармом, и крикнул еще раз — Доминик, скажи ему, пусть сыграет!
— Именем закона, играй! — гаркнул стражмейстер и ткнул пальцем в Перегрина. При этом решительном акте он задел головой маятник, и тот остановился. Жандарм деловито вырвал его, швырнул под стол и торжественно сообщил: — Полицейского часа не будет!
— Ура, полицейского часа не будет! — загудели вокруг. — Играй, Перегрин!
Парень улыбался. Неожиданно он подошел к Тантадрую и попросил у него колокольчики. Дурачок, всецело доверявший Перегрину, не возражал, напомнив только, чтобы он был осторожнее, ведь они предназначены мученикам.
— Они и понадобятся мученикам. Малым да большим, — смеясь ответил Перегрин. Он поставил на два стола два стула и натянул между ними веревку с колокольчиками. Потом взял В руки деревянную ложку, слегка коснулся каждого колокольчика, прислушался, отвязал один, второй, привязал их в другом месте. Долго он перебирал колокольчики. Люди недоуменно следили за ним, кое-кто заранее предвкушал забаву. Разместив колокольчики по-своему, Перегрин попросил еще две деревянные ложки и заиграл, в самом деле заиграл, на колокольчиках и запел песенку Тантадруя:
На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
Песня отзвенела, люди сидели раскрыв рты, а дурачок радостно захлопал в ладоши.
— Так будут играть мученики! — ласково кивнул ему Перегрин.
— Тантадруй, так будут играть мученики!
— Так будут играть мученики! — поддержал растроганно могучий Округличар, своей комплекцией вполне соответствовавший фамилии.
— Мученики? — внезапно подскочил на месте благочестивый бобыль Арнац, по кличке Преподобный Усач, прозванный так за то, что он слишком склонялся в церкви над кропильницей и смачивал в освященной водице свои длинные, вислые усы. — Не поминайте всуе мучеников!
— Арнац! — возразил Перегрин. — А мы разве не мученики?
— Именем закона, все мы мученики! — авторитетно заявил стражмейстер Доминик Тестен.
— Безумцы! — верещал Преподобный Усач.