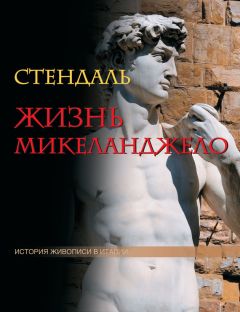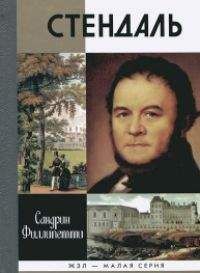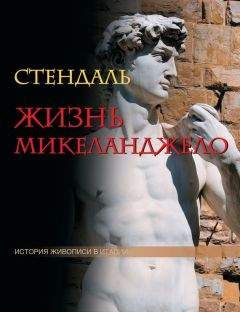Кто оправдывается, тот сам себя выдает; я не верю Матильде…» В этот вечер рассуждения маркиза были много более решительны и последовательны, чем обычно. Однако привычка взяла свое: он решил выиграть еще немного времени и написать дочери, ибо у них теперь завязалась переписка из одной комнаты особняка в другую. Г-н де Ла-Моль не решался спорить с Матильдой и переубеждать ее. Он боялся, как бы это не кончилось внезапной уступкой с его стороны.
Письмо«Остерегайтесь совершить еще новые глупости; вот Вам патент гусарского поручика на имя шевалье Жюльена Сореля де Ла-Верне. Вы видите, чего я только не делаю для него. Не спорьте со мной, не спрашивайте меня. Пусть изволит в течение двадцати четырех часов явиться в Страсбург, где стоит его полк. Вот вексельное письмо моему банкиру; повиноваться беспрекословно».
Любовь и радость Матильды были безграничны, она решила воспользоваться победой и написала тотчас же:
«Господин де Ла-Верне бросился бы к Вашим ногам, не помня себя от благодарности, если бы он только знал, что Вы для него делаете. Но при всем своем великодушии отец мой забывает обо мне — честь Вашей дочери под угрозой. Малейшая нескромность может запятнать ее навеки, и тогда уж и двадцать тысяч экю ренты не смоют этого позора. Я пошлю патент господину де Ла-Верне только в том случае, если Вы мне дадите слово, что в течение следующего месяца моя свадьба состоится публично в Вилькье. Вскоре после этого срока, который умоляю Вас не пропустить, Ваша дочь не сможет появляться на людях иначе, как под именем госпожи де Ла-Верне. Как я благодарна Вам, милый папа, что Вы избавили меня от этого имени — Сорель…», и так далее, и так далее.
Ответ оказался неожиданным.
«Повинуйтесь, или я беру все назад. Трепещите, юная сумасбродка. Сам я еще не имею представления, что такое Ваш Жюльен, а Вы и того меньше. Пусть отправляется в Страсбург и ведет себя как следует. Я сообщу о моем решении через две недели».
Этот решительный ответ весьма удивил Матильду. «Я не знаю, что такое Ваш Жюльен» — эти слова захватили ее воображение, и ей тут же стали рисоваться самые увлекательные возможности, которые она уже принимала за истину. «Ум моего Жюльена не подгоняется к тесному покрою пошлого салонного образца, и именно это-то, что, казалось бы, и доказывает его исключительную натуру, внушает недоверие отцу.
Однако, если я не послушаюсь его каприза, дело может дойти до публичного скандала, а огласка, конечно, весьма дурно повлияет на мое положение в свете и, быть может, даже несколько охладит ко мне Жюльена. А уж после такой огласки… жалкое существование, по крайней мере, лет на десять. А безумство выбрать себе мужа за его личные достоинства не грозит сделать тебя посмешищем только тогда, когда ты располагаешь громадным состоянием. Если я буду жить вдалеке от отца, то он, в его возрасте, легко может позабыть обо мне… Норбер женится на какой-нибудь обаятельной ловкой женщине. Ведь сумела же герцогиня Бургундская обольстить старого Людовика XIV».
Она решила покориться, но остереглась показать отцовское письмо Жюльену. Зная его неистовый характер, она опасалась какой-нибудь безумной выходки.
Когда вечером она рассказала Жюльену, что он теперь гусарский поручик, радость его не знала границ. Можно себе представить эту радость, зная честолюбивые мечты всей его жизни и эту его новую страсть к своему сыну. Перемена имени совершенно ошеломила его.
«Итак, — сказал он себе, — роман мой в конце концов завершился, и я обязан этим только самому себе. Я сумел заставить полюбить себя эту чудовищную гордячку, — думал он, поглядывая на Матильду, — отец ее не может жить без нее, а она без меня».
Даруй мне, господи, посредственность.
Мирабо.
Душа его упивалась, он едва отвечал на пылкую нежность Матильды. Он был мрачен и молчалив. Никогда еще он не казался Матильде столь необыкновенным, и никогда еще она так не боготворила его. Она дрожала от страха, как бы его чрезмерно чувствительная гордость не испортила дело.
Она видела, что аббат Пирар является в особняк чуть ли не каждый день. Может быть, Жюльен через него узнал что-нибудь о намерениях ее отца? Или, может быть, поддавшись минутной прихоти, маркиз сам написал ему? Чем объяснить этот суровый вид Жюльена после такой счастливой неожиданности? Спросить его она не осмеливалась.
Не осмеливалась! Она, Матильда! И вот с этой минуты в ее чувство к Жюльену прокралось что-то смутное, безотчетное, что-то похожее на ужас. Эта черствая душа познала в своей любви все, что только доступно человеческому существу, взлелеянному среди излишеств цивилизации, которыми восхищается Париж.
На другой день, на рассвете, Жюльен явился к аббату Пирару. За ним следом во двор въехали почтовые лошади, запряженные в старую разбитую колымагу, нанятую на соседнем почтовом дворе.
— Такой экипаж вам теперь не годится, — брюзгливым тоном сказал ему суровый аббат. — Вот вам двадцать тысяч франков, подарок господина де Ла-Моля; вам рекомендуется истратить их за год, но постараться, насколько возможно, не давать повода для насмешек. (Бросить на расточение молодому человеку такую огромную сумму, с точки зрения священника, означало толкнуть его на грех.)
Маркиз добавляет к сему: господин Жюльен де Ла-Верне должен считать, что он получил эти деньги от своего отца, называть коего нет надобности. Господин де Ла-Верне, быть может, найдет уместным сделать подарок господину Сорелю, плотнику в Верьере, который заботился о нем в детстве…
— Я могу взять на себя эту часть его поручений, — добавил аббат, — я, наконец, убедил господина де Ла-Моля пойти на мировую с этим иезуитом, аббатом Фрилером. Его влияние, разумеется, намного превышает наше. Так вот, этот человек, который, в сущности, управляет всем Безансоном, должен признать ваше высокое происхождение — это будет одним из негласных условий мирного соглашения.
Жюльен не мог совладать со своими чувствами и бросился аббату на шею. Ему уже казалось, что его признали.
— Что это? — сказал аббат Пирар, отталкивая его. — Что это за суетность светская?.. Так вот, что касается Сореля и его сыновей, — я предложу им от своего имени пенсию в пятьсот франков, которая будет им выплачиваться ежегодно, покуда я буду доволен их поведением.
Жюльен уже снова был холоден и высокомерен. Он поблагодарил, но в выражениях крайне неопределенных и ни к чему не обязывающих. «А ведь вполне возможно, что я побочный сын какого-нибудь видного сановника, сосланного грозным Наполеоном в наши горы!» С каждой минутой эта мысль казалась ему все менее и менее невероятной. «Моя ненависть к отцу явилась бы в таком случае прямым доказательством… Значит, я вовсе не такой уж изверг!»
Спустя несколько дней после этого монолога Пятнадцатый гусарский полк, один из самых блестящих полков французской армии, стоял в боевом порядке на плацу города Страсбурга. Шевалье де Ла-Верне гарцевал на превосходном эльзасском жеребце, который обошелся ему в шесть тысяч франков. Он был зачислен в полк в чине поручика, никогда не числившись подпоручиком, разве что в именных списках какого-нибудь полка, о котором он никогда не слыхал.
Его бесстрастный вид, суровый и чуть ли не злой взгляд, бледность и неизменное хладнокровие — все это заставило заговорить о нем с первого же дня. Очень скоро его безукоризненная и весьма сдержанная учтивость, ловкость в стрельбе и в фехтовании, обнаруженные им безо всякого бахвальства, отняли охоту у остряков громко подшучивать над ним. Поколебавшись пять-шесть дней, общественное мнение полка высказалось в его пользу. «В этом молодом человеке, — говорили старые полковые зубоскалы, — все есть, не хватает только одного — молодости».
Из Страсбурга Жюльен написал г-ну Шелану, бывшему верьерскому кюре, который теперь был уже в весьма преклонных летах:
«Не сомневаюсь, что Вы с радостью узнали о важных событиях, которые побудили моих родных обогатить меня. Прилагаю пятьсот франков и прошу Вас раздать их негласно, не называя моего имени, несчастным, которые обретаются ныне в такой же бедности, в какой когда-то пребывал я, и которым. Вы, конечно, помогаете, как когда-то помогали мне».
Жюльена обуревало честолюбие, но отнюдь не тщеславие; однако это не мешало ему уделять очень много внимания своей внешности. Его лошади, его мундир, ливреи его слуг — все было в безукоризненном порядке, который поддерживался с пунктуальностью, способной сделать честь английскому милорду. Став чуть ли не вчера поручиком по протекции, он уже рассчитывал, что для того, чтобы в тридцать лет, никак не позже, стать командиром полка по примеру всех великих генералов, надо уже в двадцать три года быть чином выше поручика. Он только и думал, что о славе и о своем сыне.