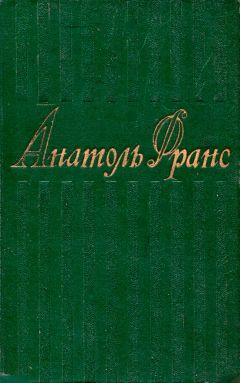И вот Пьер опять бледнеет и краснеет, рассматривая картинки. К концу декабря он опять стал нервным ребенком с огромными глазами и горячими ручками. Он плохо спал и плохо ел.
Врач говорил:
— Он здоров, пусть побольше ест.
Легко сказать! Бедная мать перепробовала все, что только могла, но все напрасно. Она плакала, а Пьер не ел.
В сочельник Пьеру приготовили много подарков: клоунов, лошадок и солдатиков. На следующее утро, стоя в пеньюаре перед камином, мать уныло и недоверчиво разглядывала гротескные физиономии игрушек.
«Это его еще возбудит, — думала она. — Их так много!»
И тихонько, боясь разбудить Пьера, она взяла клоуна, показавшегося ей злобным, солдатиков, которых она опасалась, думая, что они могут увлечь впоследствии ее сына на поле брани, взяла даже славную рыжую лошадку и вышла на цыпочках, чтобы запереть все эти игрушки к себе в шкаф. Оставив в камине только коробку из некрашеного дерева, подарок неимущего человека, — скотный двор за тридцать девять су, — она уселась возле кроватки и стала глядеть, как спит ее сын. Она была женщиной и улыбнулась, подумав, что хоть и с доброй целью, — но схитрила. Глядя на синеватые веки мальчика, она вновь задумалась.
«Как ужасно, что его нельзя заставить есть как следует!»
Как только маленького Пьера одели, он тотчас же раскрыл коробку и увидел барашков, коров, лошадок, деревья, кудрявые деревья! Говоря точнее, это был не скотный двор, а ферма.
Пьер увидел фермера и фермершу: фермер несет на плече косу, фермерша — грабли. Они идут в луга на покос, но что-то не похоже, что они идут. На фермерше соломенная шляпа и красное платье. Пьер принялся ее целовать, и она закрасила ему щечку. Он увидел домик, — такой маленький и низкий, что фермерша не могла бы выпрямиться там во весь рост, но в домике была дверца: по ней-то Пьер и догадался, что это дом.
Чем именно эти раскрашенные фигурки показались неискушенному и наивному взору ребенка? Трудно сказать, но впечатление они произвели колоссальное. Он так крепко сжимал их в кулачках, что пальцы его стали липкими от краски; он расставлял их на своем столике и ласково звал по имени: «Тпру-тпру», «Туту», «Муму». Приподняв одно из странных зеленых деревьев с плоским прямым стволом и конусообразной листвой из стружек, он крикнул:
— Елочка!
Для матери это было своего рода откровением. Сама она никогда бы не догадалась. Но стоило Пьеру сказать, что зеленое конусообразное дерево с плоским стволом — елка, и она сейчас же поверила.
— Ангел мой!
И она так крепко обняла его, что опрокинула три четверти фермы.
Между тем Пьер нашел какое-то сходство между игрушечными деревьями и теми деревьями, что росли в горах, на вольном воздухе.
Он заметил еще многое, чего не заметила мама. Раскрашенные чурочки вызывали в его памяти трогательные образы. Они перенесли его на лоно альпийской природы; он вновь жил в Швейцарии, которая его так щедро накормила. И тогда одно представление повлекло за собой другое, он вспомнил о еде и сказал:
— Мне хочется молока и хлеба.
Он попил и поел. Аппетит вернулся к нему. Вечером он так же охотно поужинал, как утром позавтракал. На следующий день, увидав скотный двор, он опять захотел есть. Вот что делает воображение! Через две недели он превратился в пухленького маленького человечка. Мать была в восторге. Она говорила:
— Вы только поглядите, какие щечки! Настоящая куколка за тринадцать су! И все благодаря подарку бедного господина N.
III. Джесси
В царствование Елизаветы жил в Лондоне ученый, звавшийся Богг, и под именем Богуса известный как автор трактата «О человеческих ошибках», которого никто не читал.
Богус трудился над ним двадцать пять лет и ничего еще не опубликовал: но в рукописи, переписанной набело и расставленной на полках в амбразуре окна, было не менее десяти томов in folio. Первый трактовал об ошибке рождения на свет человека — первопричине всех прочих человеческих ошибок. В следующих томах разбирались ошибки мальчиков и девочек, юношей, людей зрелого возраста и старцев, а также людей всевозможных профессий: государственных мужей, купцов, солдат, поваров, писателей и проч. Последние томы, еще не вполне законченные, рассматривали ошибки государства, проистекавшие из совокупности всех ошибок, как индивидуальных, так и профессиональных. И такова была последовательность мысли в этом великолепном трактате, что нельзя было изъять ни одной страницы, не нарушив целостности всего произведения. Доказательства вытекали одно из другого, и в результате выходило, что основа всей жизни — зло, и что ежели жизнь измеримая величина, то с математической точностью можно доказать, что зла на земле столько же, сколько и жизней.
Богус не совершил одной большой ошибки: он не женился. Он жил в скромном домике со своей старой домоправительницей, которую звали Кэт, то есть Екатерина, но он называл ее Клаузентина, потому что она была родом из Саутгэмптона.
Сестра философа, менее мудрая, чем брат, впадала из одной ошибки в другую: она полюбила торговца сукном из Сити, вышла замуж за этого торговца и родила дочь, названную Джесси.
Ее последней ошибкой было то, что она умерла через десять лет после брака, чем вызвала и смерть торговца сукном, который не пережил ее. Богус приютил у себя сиротку из жалости, а также надеясь, что она доставит ему много убедительных примеров детских ошибок.
Джесси было в ту пору шесть лет. Первую неделю жизни в домике ученого она плакала и ничего не говорила. По прошествии недели она сказала Богусу:
— Я видела маму: она была вся в белом, а в складках ее платья были цветы. Она разбросала их по моей кроватке, но утром я ничего не нашла. Отдай мне мамочкины цветы.
Богус отметил в своем трактате эту ошибку, но в комментариях признал ее невинной и даже очень милой.
Несколько времени спустя Джесси сказала Богусу:
— Дядя Богус, ты старый, ты некрасивый, но я очень люблю тебя. И ты тоже должен меня любить.
Богус взялся за перо; но по зрелом размышлении признал, что он действительно уже не молод и никогда не был очень красив, а потому не стал записывать слова ребенка, однако спросил:
— А почему я должен тебя любить, Джесси?
— Потому что я маленькая.
«Верно ли, — размышлял Богус, — верно ли, что мы должны любить маленьких? Возможно, это и так. Ведь действительно они очень нуждаются в любви. Пожалуй, это оправдывает ошибку, свойственную всем матерям, которые кормят грудью и любят своих малюток. Эту главу моего трактата придется переделать.»
В день своих именин Богус, войдя утром в комнату, которую называл своим книгохранилищем, потому что там находились его книги и рукописи, почувствовал приятный запах и увидел на подоконнике горшок гвоздики.
Всего три цветка, но три ярко-красных цветка, на которых радостно играли лучи ласкового солнца. И все смеялось в приюте учености: старинное ковровое кресло, ореховый стол, корешки древних фолиантов в переплетах из телячьей кожи, в переплетах из пергамента, в переплетах из свиной кожи. Богус, такой же ссохшийся, как и они, начал, как и они, улыбаться. Обняв его, Джесси сказала:
— Гляди, дядя Богус, гляди: вот там небо (она указала на бледную синеву небес, видневшуюся сквозь мелкие оконные стекла, в свинцовой оправе); а вот тут, пониже, земля, земля в цвету (она указала на горшочек с гвоздиками); а вот тут, совсем внизу, толстые черные книги, — это ад.
«Толстые черные книги» — это были как раз десять томов трактата «О человеческих ошибках», расставленные в нише под окном. Эта ошибка Джесси напомнила ученому о его произведении, которым он за последнее время пренебрегал из-за прогулок с племянницей по улицам и паркам. Девочка делала множество приятных открытий, а с ней вместе делал эти открытия и Богус, который всю свою жизнь не высовывал носа на улицу. Богус раскрыл трактат, но он показался ему чужим, потому что там не говорилось ни о цветах, ни о Джесси.
К счастью, на помощь пришла философия, внушив ему мудрую мысль, что Джесси бесполезное существо. И он крепко ухватился за эту истину, ибо она была необходима для целесообразности его трактата.
Однажды, когда Богус размышлял на эту тему, он застал в своем книгохранилище Джесси, которая вдевала нитку в иглу, сидя перед окном с гвоздиками. Он спросил, что она собирается шить. Джесси ответила:
— Разве ты, дядя Богус, не знаешь, что ласточки улетели?
Богус не знал; об этом не говорилось ни у Плиния, ни у Авиценны. Джесси продолжала:
— Мне сказала вчера Кэт…
— Кэт?! — воскликнул Богус. — Девочка, ты, вероятно, имеешь в виду почтенную Клаузентину!
— Кэт сказала мне вчера: «Ласточки в этом году улетели раньше обычного, значит, будет ранняя и суровая зима». Вот что сказала Кэт. А ночью я видела во сне маму, в белом платье, и волосы у нее светились. Только она не принесла цветов, как в прошлый раз. Она сказала: «Джесси, вынь из сундука меховой плащ дяди Богуса и почини его, если он изорван». Я проснулась и, как только встала, сейчас же вынула из сундука твой плащ; он во многих местах разорвался, вот я и хочу его починить.