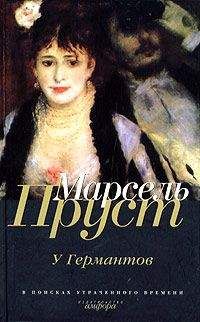Когда интеллигентная, образованная, остроумная женщина выходила замуж за робкого дурня, «которого редко кто видел и никто не слышал, то герцогиня Германтская придумывала себе в один прекрасный день утонченное наслаждение, не только «описывая» жену, но и «открывая» мужа. Так, например, относительно четы Камбремер, если бы она принадлежала к ее кругу, герцогиня постановила бы, что г-жа де Камбремер — дура, но зато личностью милой и интересной, хотя непризнанной и обреченной на молчание своей трещоткой-женой, которая не годится ему в подметки, является маркиз; объявив это, герцогиня почувствовала бы то освежение, какое чувствует критик, когда признается, что «Эрнани», которым все восхищались в течение семидесяти лет, он предпочитает «Влюбленного льва». И если все смолоду жалели примерную женщину, подлинную святую, вышедшую замуж за негодяя, то герцогиня Германтская, из той же потребности в ничем не оправданной новизне, в один прекрасный день утверждала, что негодяй-муж просто легкомысленный, но добросердечный человек, которого непреклонная суровость жены толкнула на крайне необдуманные поступки. Я знал, что, не только имея дело с различными произведениями, созданными в течение длинного ряда веков, но даже и в одном произведении критика любит погружать в тень то, что слишком долго ярко сияло, и извлекать на свет то, что казалось обреченным на окончательное забвение. Я не только видел, как Беллини, Винтергальтер, иезуитские архитекторы и мебельные мастера Реставрации занимали места гениев, которые объявлены были затасканными просто потому, что ими были утомлены праздные интеллигенты, как всегда бывают утомлены и изменчивы неврастеники. Я видел, как в Сент-Бёве предпочитали то критика, то поэта, как осуждались стихи Мюссе и возвеличивались его весьма посредственные пьесы. Конечно, неправы те эссеисты, что ставят выше самых прославленных сцен «Сида» и «Полиевкта» тираду из «Лжеца», которая, подобно старинному плану, дает сведения о Париже XVII века, но это их предпочтение, оправдываемое если не эстетическими соображениями, то по крайней мере интересом к фактам, еще вполне логично по сравнению с шальной критикой. Она отдает всего Мольера за один стих из «Сумасброда» или же, находя вагнеровского «Тристана» убийственно скучным, готова пощадить из него одну «прелестную ноту рожка», раздающуюся, когда проходит охота. Эта извращенность помогла мне понять извращенность, проявляемую герцогиней Германтской, когда она объявляла, что такой-то человек их круга, всеми признанный славным малым, но глупцом, является чудовищем эгоизма, продувной бестией, что другой, известный своей щедростью, может служить символом скупости, что добрая мать не дорожит своими детьми и что женщина, всеми считавшаяся порочной, исполнена самых благородных чувств. Словно поврежденные ничтожеством светской жизни, ум и чувства герцогини Германтской были слишком шаткими, чтобы увлечение очень быстро не сменялось в ней отвращением (что не мешало ей вновь прельщаться тем родом остроумия, которым она то пренебрегала, то увлекалась) и чтобы пленительность, которую она находила в отзывчивом человеке, не превращалась, — если он учащал свои посещения и слишком усердно искал у нее руководства, которое она неспособна была ему дать, — в раздражение, вызывавшееся не поклонником ее, как она думала, а ее собственным бессилием находить удовольствие, как это всегда бывает с людьми, которые ограничиваются тем, что его ищут. Изменчивость суждений герцогини не щадила никого, за исключением ее мужа. Он один никогда ее не любил; в нем она всегда чувствовала железный характер, равнодушие к ее капризам, презрение к ее красоте, крутой нрав, непреклонную волю, то есть видела одного из тех людей, единственно под властью которых особы нервные умеют находить спокойствие. С другой стороны, у герцога Германтского, всегда увлекавшегося одним и тем же типом женской красоты, но искавшего его в часто сменявшихся любовницах, была, когда он их покидал и чтобы посмеяться над ними, одна только постоянная и неизменная сообщница, которая часто его раздражала своей болтовней, но которую все признавали самой красивой, самой добродетельной, самой умной и самой образованной представительницей аристократии; все признавали, что ему чрезвычайно посчастливилось взять себе в жены эту женщину, которая прикрывала все его бесчинства, принимала, как никто, и поддерживала за их салоном репутацию первого салона Сен-Жерменского предместья. Это общее мнение разделял он всецело; нередкие вспышки гнева на жену не мешали ему гордиться ею. Будучи скупым при всей своей любви к пышности, он отказывал жене в самых ничтожных деньгах на благотворительность, на прислугу, но считал необходимым, чтобы у нее были самые роскошные туалеты и самые красивые выезды. Каждый раз, когда ей удавалось придумать новенький пряный парадокс насчет достоинств и недостатков (вдруг переставлявшихся ею) кого-нибудь из их знакомых, герцогиня Германтская сгорала от нетерпения попробовать его перед лицами, способными его посмаковать, жаждала угостить их его психологической оригинальностью и блеснуть перед ними лапидарностью своего зложелательства. Правда, эти ее новые мнения содержали обыкновенно не больше истины, чем старые, часто даже меньше; но как раз произвольность и неожиданность сообщали им нечто остроумное и внушали такое нетерпеливое желание поделиться ими. Однако жертвой психологических экспериментов герцогини бывал обыкновенно близкий ей человек, и те, кому она желала передать свое открытие, совершенно не подозревали, что человек этот уже не пользуется ее благорасположением; таким образом упрочившаяся за герцогиней репутация исключительно чуткой женщины, способной быть самым нежным и преданным другом, затрудняла приступ к атаке; герцогиня могла самое большее вмешаться в разговор как бы против своей воли, подать как бы вынужденную реплику, чтобы внести успокоение, чтобы с виду возразить, а на деле поддержать партнера, взявшегося ее провоцировать; как раз роль такого партнера бесподобно исполнял герцог Германтский.
Что касается светских событий, то другим чисто театральным удовольствием герцогини Германтской было изрекать о них те непредвиденные суждения, что всегда так приятно ошеломляли принцессу Пармскую. Однако, пытаясь уяснить природу этого удовольствия герцогини, я обратился за помощью не столько к литературной критике, сколько к политической жизни и парламентской хронике. Когда следовавшие один за другим противоречивые эдикты, которыми герцогиня непрестанно опрокидывала порядок ценностей у лиц ее круга, переставали ее развлекать, она переносила внимание на собственное поведение в обществе, разбиралась в мотивах малейших своих поступков в светской жизни, пробуя насладиться теми искусственными эмоциями, которые одушевляют депутатов на заседаниях, и повиноваться тем фиктивным обязанностям, которые возлагают на себя политические деятели. Допустим, что министр объясняет Палате, почему он считал правильным следовать линии поведения, которая действительно кажется вполне естественной здравомыслящим людям, читающим на другой день газетный отчет о заседании; разве эти здравомыслящие читатели не бывают вдруг взволнованы и в них не закрадывается сомнение, правы ли они были, одобряя министра, когда они видят, что речь его была выслушана при сильном возбуждении палаты и отмечена такими выражениями порицания, как: «Это очень серьезно», произнесенными депутатом с чрезвычайно длинным именем и титулами и сопровождавшимися таким оживленным движением протеста, что в шуме, прервавшем оратора, слова: «Это очень серьезно!» — занимают меньше места, чем часть до цезуры в александрийском стихе? Например, когда герцог Германтский, в те времена принц де Лом, заседал в Палате депутатов, в парижских газетах можно было иногда прочесть, хотя строки эти предназначены были главным образом для мезеглизского округа и имели целью показать избирателям, что они подали свои голоса за депутата далеко не бездеятельного и не безгласного:
(Господин де Германт-Буйон, принц де Лом: «Это очень серьезно!» Возгласы: «Отлично! Отлично!» в центре и на некоторых скамьях правой, оживленные восклицания на крайней левой.)
Здравомыслящий читатель сохраняет еще искорку доверия к мудрому министру, но сердце его снова начинает учащенно биться при первых словах следующего оратора, который отвечает министру: «Удивление, оцепенение — это еще недостаточно сильно сказано (живое впечатление в правой части зала), — в которое повергли меня слова того, кто состоит еще, полагаю, членом правительства… (Гром аплодисментов. Некоторые депутаты устремляются к министерским скамьям; г. товарищ министра почт и телеграфов делает с места утвердительный знак.)» Этот «гром аплодисментов» уничтожает последнее сопротивление здравомыслящего читателя, он находит оскорбительным для Палаты, чудовищным способ действия, не заключающий в себе ничего предосудительного; вполне нормальную вещь, например, желание заставить богатых платить больше, чем платят бедные, пролить свет на какое-нибудь беззаконие, предпочесть мир войне, он найдет скандальной и увидит в ней оскорбление принципов, о которых он, правда, не думал и которые не начертаны в сердце человека, но которые приводят в сильное волнение вследствие вызываемых ими шумных криков и собираемого ими внушительного большинства Палаты.