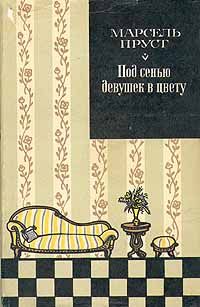«Ах, так он хороший художник? Ах, так дом у него красивый?» Наконец, еще более общим, чем доставшееся им наследство, был сок их родного края, придававший особое звучание голосам и вспаивавший интонации. Когда Андре резко брала низкую ноту, то она ничего не могла поделать с перигорской струной голосового своего инструмента, чтобы она не издала певучего звука, к тому же поразительно гармонировавшего с южной правильностью ее черт; а вечным проказам Розамунды соответствовали северный тип ее лица и северный ее голос, а также особенности говора ее родного края. Между родным краем девушки и ее темпераментом, управлявшим модуляциями голоса, мне слышался чудесный диалог. Диалог, но не спор. Ни одна из модуляций не отчуждала девушку от родины. Девушка все еще представляла собой свою родину. Надо заметить, что действие местных богатств на дарование, которое пользуется ими и которое они укрепляют, не уменьшает оригинальности его произведений, и, будь то произведение зодчего, краснодеревщика или композитора, оно не менее добросовестно отражает тончайшие черты индивидуальности художника, оттого что ему пришлось поработать над санлисским жерновым камнем или над страсбургским красным песчаником, оттого что он не тронул особой узловатости ясеня, оттого что когда он писал музыку, то принял в расчет ресурсы и пределы звучности, принял в расчет возможности флейты и альта.
Я это понимал, хотя мы так мало разговаривали между собой! Маркизе де Вильпаризи или Сен-Лу я сказал бы, что получил от встреч с ними большое удовольствие, тогда как на самом деле оно было совсем не так велико, потому что, простившись с ними, я чувствовал себя усталым, а когда я лежал на пляже с девушками, полнота испытываемых мною чувств с лихвой вознаграждала меня за бессодержательность, за скупость наших речей и переплескивала через мою неповоротливость и несловоохотливость волны счастья, шум которых затихал около этих молодых роз.
Выздоравливающий, который целые дни проводит в, саду, не с такой остротой ощущает пропитанность множества мелочей, из которых складывается его досуг, запахом цветов и плодов, с какой я, глядя на девушек, различал их краски и ароматы, нежность которых вливалась потом в меня. Так виноград становится сладким на солнце. И своей медлительной непрерывностью эти радости, такие простые, вызывали у меня, как у тех, кто все время лежит у моря, дышит солью, загорает ощущение расслабленности, вызывали на лицо блаженную улыбку, вызывали какую-то ослепленность вплоть до помутнения в глазах.
Иной раз от чьего-нибудь отрадного знака внимания по всему моему телу пробегала дрожь, и эта дрожь умаляла на время мое влечение к другим. Так, однажды Альбертина спросила: «У кого есть карандаш?» Андре дала ей карандаш, Розамунда — бумагу, Альбертина же им сказала: «Старушонки! Подсматривать запрещается». Держа бумагу на коленях, она старалась писать как можно разборчивее, затем дала мне записку и сказала: «Только чтоб никто не видел!» Я развернул записку и прочел: «Вы мне нравитесь».
«Вместо того чтобы писать чепуху, — внезапно повернувшись с важным и властным видом к Андре и Розамунде, воскликнула она, — мне бы надо было показать вам письмо от Жизели — я его получила с утренней почтой. Экая я дура, таскаю его в кармане, а ведь оно может быть нам очень полезно!» Жизель сочла своим долгом прислать подруге с тем, чтобы она показала другим, сочинение, которое она написала на выпускном экзамене. Трудность двух тем, предложенных на выбор Жизели, превзошла опасения Альбертины. Одна из них была такая: «Софокл пишет из ада Расину, чтобы утешить его в связи с провалом „Гофолии“. Другая: „Что г-жа де Севинье могла бы написать г-же де Лафайет о том, как она жалела, что ее не было на первом представлении „Эсфири“. Так вот, Жизель, решив блеснуть и умилить экзаменаторов, выбрала первую тему, более трудную, написала замечательно, и ей поставили четырнадцать, да еще экзаменационная комиссия поздравила ее. Она получила бы общую оценку „очень хорошо“, если б не „срезалась“ на экзамене по испанскому языку. Сочинение, копию которого прислала Жизель, Альбертина нам тут же и прочитала — ей предстоял такой же экзамен, и она интересовалась мнением Андре, потому что Андре знала гораздо больше их всех, вместе взятых, и могла „поднатаскать“ ее. „Ей здорово повезло, — заметила Альбертина. — Как раз над этой темой она корпела здесь с учительницей французского языка“. Письмо, которое Жизель написала Расину от имени Софокла, начиналось так: «Дорогой друг! Прошу меня извинить за то, что я Вам пишу, не имея чести быть лично с Вами знаком, но Ваша новая трагедия «Гофолия“ свидетельствует о том, что Вы в совершенстве изучили мои скромные творения. Вы не только заставили говорить стихами протагонистов, то есть главных действующих лиц, но сочинили стихи, — стихи прекасные, говорю Вам это без всякой лести, — и для хоров, которые, по мнению многих, были неплохи в греческой трагедии, но которые для Франции явились чем-то совершенно новым. Кроме того, Ваш талант, такой свободный, такой изящный, такой пленительный, такой настоящий, такой легкий, достигает здесь необычайной мощи, перед которой я преклоняюсь. Даже Ваш соперник Корнель не мог бы лучше очертить Гофолию и Иодая. Характеры сильные, интрига проста и занимательна. Пружиной в Вашей трагедии служит не любовь, и, на мой взгляд, в этом состоит ее громадное достоинство. Изречения, пользующиеся наибольшей известностью, не всегда являются самыми верными. Вот Вам пример:
Кто страсть любовную живописать сумеет,
Сердцами нашими, уж верно, завладеет.
Вы же доказали, что религиозное чувство, которым преисполнены Ваши хоры, действует так же сильно. Широкую публику Вы, быть может, привели в недоумение, однако настоящие знатоки отдают Вам должное. Итак, поздравляю Вас, дорогой собрат, и пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам свои лучшие чувства». Пока Альбертина читала сочинение, глаза у нее блестели. «Наверное, сдула! — воскликнула она, кончив читать. — Никогда не поверю, что все это сама Жизель придумала. Да еще стихи! У кого же это она подтибрила?» От восхищения, вызванного, впрочем, уже не сочинением Жизели, но еще усилившегося, равно как и от напряжения, у Альбертины «глаза на лоб лезли», когда она слушала Андре, к которой обратились за разъяснениями как к самой старшей и самой знающей, а та, заговорив о работе Жизели с легкой иронией, затем, нарочито небрежным тоном, хотя чувствовалось, что говорит она вполне серьезно, принялась переделывать сочинение. «Написано недурно, — сказала Андре Альбертине, — но будь я на твоем месте и если б мне дали такую тему, — а это может случиться, ее задают очень часто, — я бы сделала по-другому. Я взялась бы за нее вот как. Прежде всего на месте Жизели я бы не кинулась в омут головой, а набросала бы на отдельном листочке план. Сначала постановка вопроса и изложение, потом общие мысли, которые необходимо развить в сочинении. Наконец, оценка, слог, заключение. Имея план, ты с пути не собьешься. Уже в экспозиции, или, если хочешь, Титина, поскольку это письмо, во вступлении, Жизель дала маху. Человеку, жившему в семнадцатом столетии, Софокл не мог бы написать: „Дорогой друг“. „Правда, правда, ей надо было написать: „Дорогой Расин“! — подхватила Альбертина. — Так было бы гораздо лучше“. — „Нет, — чуть-чуть насмешливо возразила Андре, — обращение должно было быть такое: „Милостивый государь!“ И в конце ей надо было написать что-нибудь вроде: „С глубочайшим почтением имею честь быть, милостивый государь (в крайнем случае — „милостивый государь мой“) Вашим покорнейшим слугою“. Потом Жизель утверждает, что хоры „Гофолии“ — новость. Она забыла „Эсфирь“ и еще две трагедии — они мало известны, но именно в этом году их разбирал учитель, это его конек; назови их — и можешь считать, что выдержала. Это „Еврейки“ Робера Гарнье и „Аман“ Монкретьена“. Назвав эти две пьесы, Андре не могла сдержать чувство благожелательного превосходства, отразившегося в ее улыбке, довольно, впрочем, ласковой. Альбертина возликовала. „Андре, ты чудо! — воскликнула она. — Напиши мне эти два заглавия. Представляешь себе, какой у меня будет козырь, если мне достанется этот вопрос, даже на устном? Я их назову и всех ошарашу“. Однако потом, когда Альбертина обращалась к своей образованной подруге с просьбой сказать еще раз, как называются эти пьесы, потому что ей хотелось записать названия, Андре уверяла, что они вылетели у нее из головы, и больше о них не заговаривала. „Дальше, — продолжала Андре с едва уловимым презрением к своим товаркам, на которых она смотрела как на детей, довольная, вместе с тем, что ею восхищаются, и, сама того не желая, увлекшаяся сочинением, — Софокл в аду должен быть хорошо осведомлен. Следовательно, ему должно быть известно, что „Гофолию“ давали не для широкой публики, а для Короля-Солнца и нескольких приближенных. Об успехе у знатоков у Жизели сказано неплохо, но нуждается в дополнении. Бессмертный Софокл вполне может обладать даром пророчества и предвозвестить мнение Вольтера, что „Гофолия“ — это не только „великое произведение Расина, но и человеческого гения вообще“. Альбертина впивала каждое ее слово. Глаза у нее горели. И она с глубочайшим возмущением отвергла предложение Розамунды поиграть. „Наконец, — снова заговорила Андре все так же бесстрастно, непринужденно, слегка насмешливо и вместе с тем достаточно убежденно, — если бы Жизель записала для себя те общие мысли, которые ей следует развить, она, пожалуй, пришла бы к тому же, что сделала бы на ее месте я, — то есть показала бы разницу между религиозным духом хоров Софокла и хоров Расина. Я заставила бы Софокла заметить, что хотя хоры у Расина проникнуты религиозным чувством, как и хоры в греческой трагедии, но боги здесь и там разные. Бог Иодая ничего общего не имеет с богом Софокла. И в конце сам собой напрашивается вывод: «То, что верования различны, не имеет никакого значения“. Софокл постеснялся бы на этом настаивать. Он побоялся бы оскорбить чувства Расина и предпочел бы, сказав несколько слов об его наставниках из Пор-Ройяль, с особой похвалой отозваться о той возвышенности, какой отличается поэтический дар его соревнователя“.