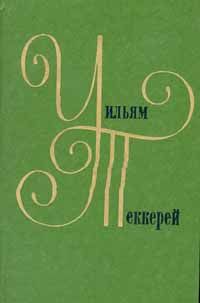Матушка и слышать не хотела, чтобы я продолжал работать почтальоном. Она заявила, что ее ненаглядный Роберт, сын ее любимого Томаса, ее храбрый солдат, и так далее, и так далее, не должен трудиться: он должен быть джентльменом, — я, разумеется, им и был, хотя на пятьдесят фунтов в год не очень-то развернешься, ведь нужно еще и одеваться, как подобает джентльмену. Рубашки и прочее белье мне, конечно, дарила матушка, на них мне не приходилось тратиться из своих пятидесяти фунтов. Сначала она было заупрямилась немножко, хотела, чтобы я платил за стирку, но потом, конечно, все уладилось, — ведь я же был ее обожаемый Боб, понимаете, ради меня она пожертвовала бы всем на свете. Представьте, она однажды изрезала роскошную черную атласную шаль, которую ей подарила моя сестрица миссис Уотерс, и сшила мне из нее жилет и два галстука. Старушенция была сама доброта!
Я прожил так лет пять, довольствуясь пятьюдесятью фунтами в год (может, я и сделал в то время некоторые сбережения, но не об этом сейчас разговор). Все эти годы я вел себя как самый любящий и преданный сын и уезжал из дому только раз в год летом, проводя месяц в Грейвзенде или в Маргете, — поездка туда всей семьей стоила бы слишком дорого, а мне одному, холостяку, была вполне по карману. Я считал себя холостяком, потому что сам не знал, женат я или нет: об этой хитрой змее миссис Стабз я так больше и не слышал.
Я никогда не заходил в трактир днем, потому что обедать не дома мне было не по карману, — попробуйте-ка пожить на нищенские пятьдесят фунтов в год! Однако посидеть там вечерок я любил и частенько являлся домой в весьма веселом настроении. Спал я до одиннадцати утра, потом завтракал, читал газету, потом шел прогуляться в Хайд-парк или в Сент-Джеймс-парк, в половине четвертого приходил домой к обеду, и тут-то я заряжался приятным настроением на весь остаток дня. Матушка была совершенно счастлива, и я жил у них с сестрой без всяких угрызений совести.
* * *
Если бы вы только знали, как матушка любила меня! Будучи человеком общительным и гостеприимным, я нередко приглашал к себе своих добрых друзей, и мы веселились с ними всю ночь напролет.
— Ничего, друзья, — говорил я, — не жалейте вина, матушка заплатит!
И она, разумеется, платила, а мы, разумеется, отдавали должное ее запасам. Добрая старушка прислуживала нам за столом, как будто была моей служанкой, а не матерью и не благородной дамой. Никогда она не роптала, хотя я, признаюсь, давал ей множество поводов (она, например, не ложилась до четырех утра, потому что не могла заснуть, пока не уложит в постель своего дорогого Боба), и жизнь она вела полную треволнений. Старушка была так мягкосердечна, что за все пять лет рассердилась всего два раза, да и то не на меня, а на сестру Элизу, когда та сказала, что я их разоряю и выживаю жильцов одного за другим. Но матушка и слушать не захотела эту злобную завистницу. Ее дорогой Боб, сказала она, всегда прав. Наконец Лиззи сдалась и переселилась к Уотерсам. Я был очень этим доволен, потому что характер у нее стал совершенно несносный, и мы с ней с утра до ночи бранились.
Вот когда наступило веселое времечко! Но в конце концов матушке пришлось отказаться от пансиона, потому что после отъезда сестры дела почему-то стали идти все хуже и хуже, — злые языки болтали, будто все это из-за меня, я-де выжил из дому всех жильцов своим куреньем, пьянством и скандалами, а матушка-де давала мне слишком много денег, — ну, давала, ну и что с того? Не отказываться же мне, раз предлагают! И зачем только я все их истратил?
Но что теперь говорить! Я думал, фирма наша так и будет существовать до скончания века, но через два года — хлоп! — все рухнуло, лавочка закрылась, все пошло с молотка. Матушка переселилась к Уотерсам, и — вы только подумайте! — эти неблагодарные твари не пускают меня к себе на порог. А все эта Мэри, — так я ее, видите ли, разобидел, когда не пожелал на ней жениться! Двадцать фунтов в год они мне дают, это правда, но что значат эти гроши для джентльмена? Двадцать лет я, как и подобает мужчине, честным путем добывал себе средства к существованию и за это время повидал немало. Я продавал на улице сигары и носовые платки; был бильярдным маркером: в год паники состоял в правлении фирмы "Имперской британской компании" по сушке и катке белья, работал в театре — два года актером и около месяца, когда пришлось совсем туго, таскал декорации; поставлял королевской полиции чрезвычайно ценные сведения о трактирщиках, торгующих спиртными напитками, о ростовщиках и ссудных лавках. Я даже снова служил его величеству — в должности подручного у чиновника мидлсекского шерифа, только уж это было мое последнее место.
В последний день 1837 года и этой работе пришел конец. Редко случается, чтобы джентльмена выгнали из дома бейлифа, но мне пришлось пережить и это. унижение. Цппп-младший, продолжавший дело своего папаши, с позором выставил меня за дверь, потому что я взял с какого-то господина семь шиллингов и шесть пенсов за стакан эля и кусок хлеба с сыром, а полагалось за них шесть шиллингов. Этот подлый скряга вычел восемнадцать пенсов из моего жалованья и, когда я стал справедливо возмущаться, вытолкал меня в шею, — меня, дворянина, да еще несчастного сироту!
Как я бушевал и неистовствовал, оказавшись на улице! А этот мерзкий иудей стоял у двойной двери и корчился под градом моих проклятий. Уж и отомстил я ему! Из всех окон его дома из-за решеток высунулись головы, все смеялись над ним. Вокруг меня собралась толпа зевак. Я костерил подлеца, а они явно наслаждались его позором. Я думаю, они избили бы его камнями до смерти (представляете, несколько пущенных ими снарядов задели меня), но тут появился полисмен. Какой-то господин спросил его, что означает весь этот шум, и тот сказал:
— Да ничего особенного, сэр, это лорд Корнуоллис! — а мне крикнул: Проваливай отсюда, Сапог! — ибо мои злоключения, равно как и события моей юности, хорошо известны в округе.
Толпа начала расходиться.
— Почему полисмен назвал вас лордом Корнуоллисом и Сапогом? — обратился ко мне тот самый джентльмен: он, видно, заинтересовался и пошел за мной.
— Увы, сэр, — отвечал я, — перед вами несчастный офицер полка Северных Бангэйцев. За пинту эля я охотно расскажу вам о всех моих невзгодах.
Джентльмен велел мне следовать за ним, — он жил в Темпле, снимал в одном из домов квартирку на пятом этаже, — и в самом деле угостил меня элем. Я рассказал ему историю, которую вы сейчас читаете. Он, оказывается, был сочинитель, и мои приключения продал издателям. Чудак! Он говорит, из них можно извлечь мораль.
* * *
Только разрази меня гром, если я понимаю, какую из них можно извлечь мораль. Я, при моих достоинствах, заслуживал куда более счастливой доли. И что же? Лишенный крова, без единого друга во всем мире, я прозябаю на нищенскую подачку в двадцать фунтов в год, — да, двадцать фунтов и ни пенса больше, клянусь честью.
Роковые сапоги
"The Fatal Boots" — впервые напечатано в 1839 году в "Комическом альманахе", который издавал художник Джордж Крукшенк. Эта повесть, так же как и следующая, "Дневник Кокса", создавалась Теккереем в сотрудничестве с Крукшенком. Каждой из двенадцати глав соответствует гравюра. О теме ее писатель и художник договаривались заранее.
…"пинки и розги яростной судьбы". — В таком виде Стабзу запомнилась строка Шекспира "пращи и стрелы яростной судьбы" ("Гамлет", акт. III, сц. 1, перевод Б. Пастернака).
Сэр Джошуа — Джошуа Рейнольде (1723–1792) — знаменитый английский художник-портретист.
Рэниле — увеселительный сад с рестораном в Челси (Лондон), закрыт в 1804 г.
Черный понедельник — несчастливый день, день неудач (от пасхального понедельника, 14 апреля 1360 г., когда от холода и града погибло множество людей и лошадей в армии короля Эдуарда III, стоявшей под Парижем).
Сент-Китс — один из островов в Британской Вест-Индии.
Чиновник щерифа (или бейлиф) — должностное лицо, на обязанности которого было арестовывать должника по иску заимодавца и препровождать его в свой дом, где должник некоторое время содержался за плату, а затем либо, в случае уплаты долга, выходил на волю, либо его переводили в долговую тюрьму.
…у служанки не оказалось мелочи… — До почтовой реформы 1840 г. письма в Англии оплачивал получатель.
"Зима междоусобий наших" — строка Шекспира ("Ричард III", акт I, сц. 1, перевод Дружинина).
М. Лорие
Что свойственно морям (лат.).
Боже мой, боже мой, это не годится! (нем.)
Связей (франц.).
Как военный (франц.).