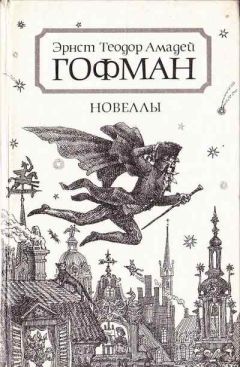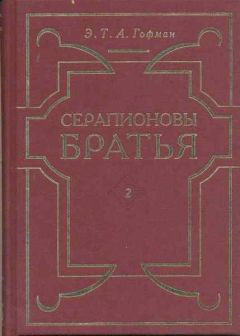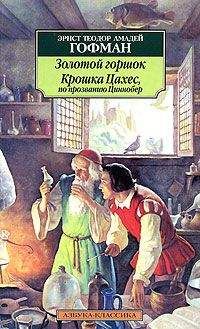Другие голоса подхватили ее, и в звучном многоголосье понеслась та песня над морем, пока не замерла где-то вдалеке, уносимая легким ветерком. Старик Фальери не обратил на это пение ни малейшего внимания, ибо он с увлечением принялся пространно объяснять своей супруге, в чем, собственно, заключается празднество, устраиваемое в день Вознесения Господня, когда дож выходит на своем бученторо в море и бросает кольцо в знак своего обручения с морской стихией. Он ударился в рассказы о победах республики в те времена, когда правил Пьетро Орсеоло II[26], о том, как были завоеваны тогда Истрия и Далмация и как впервые было устроено большое празднество в честь этих завоеваний. Но напрасно старался старик Фальери — подобно тому как он сам, упоенный своими рассказами, не обращал никакого внимания на чарующие напевы, доносившиеся с моря, так и его супруга, в свою очередь, пропустила мимо ушей все его истории. Она целиком погрузилась в дивные мелодии, витавшие над морем, и когда пение стихло, она все еще смотрела неотрывно вдаль, как человек, который только пробудился ото сна и весь еще во власти сновидений, как будто не вполне очнувшись, силится понять, где он и что с ним. «Senza amare — senza amare», — беззвучно повторяли ее губы, и слезы, застилавшие ангельские глаза, светлыми жемчужинами скатывались по щекам; дыхание участилось, словно грудь теснили невыразимые страдания. Тем временем лодка ткнулась в берег.
Не переставая разглагольствовать, старик Фальери, которого не покидало бодрое настроение, вышел со своею супругой на балюстраду, что тянулась вдоль загородного дома близ Сан-Джорджо Маджоре; упоенный своими рассказами, он и не заметил, что творится в душе Аннунциаты, охваченной какой-то неясной, смутной тревогой; и не удивился он, отчего это его супруга стоит, безмолвно устремив вдаль затуманенный от слез взгляд.
В этот момент некий юноша, одетый гондольером, затрубил в изогнутый наподобие раковины рог, и его призывные звуки разнеслись далеко по всей округе. По этому знаку еще одна гондола взяла курс к пристани. — Тем временем к дожу и догарессе приблизились мужчина с раскрытым зонтом и женщина, после чего все направились ко дворцу. — Во второй гондоле, которая как раз причалила к берегу, прибыл Марино Бодоери и еще очень много всякого пестрого народу — кого тут только не было — и купцы, и художники, и даже простолюдины затесались в эту разношерстную компанию, которая последовала за дожем во дворец.
На следующий день Антонио едва мог дождаться наступления вечера, ибо надеялся, что непременно получит какую-нибудь весточку от своей возлюбленной Аннунциаты. И вот наконец вернулась старуха: с трудом переводя дыхание, она проковыляла к креслу и, усевшись в него, заговорила, горестно воздевая к небу свои тощие руки:
— Тонино, мой милый Тонино! Ох, приключилась беда с нашей голубкой! — Вхожу я сегодня к ней и вижу — лежит она на подушках, опустив головку, глаза прикрыты, так что и не поймешь, то ли дремлет она, то ли просто отдыхает. Подошла я поближе и говорю: «Ах, милостивая госпожа, может, беда какая приключилась с вами? Может, ранка вас опять беспокоит, ведь еще не зажила она как следует?» И тут она посмотрела на меня. — Тонино! Что это был за взгляд! Ни разу я до того не видала, чтобы она так смотрела! Словно бледная луна выглянула на мгновение из-за тучи и скрылась за тенью шелковистых ресниц. А потом она вздохнула тяжко и отвернула от меня свое бледное личико, только слышно было, как она что-то шепчет тихо-тихо, но так печально, так грустно, что у меня прямо сердце защемило: «Amare — amare — ah, senza amare». Взяла я тогда скамеечку, устроилась подле нее, принялась снова о тебе рассказывать, а она уткнулась в подушки, вижу — вся дрожит, того и гляди разрыдается. Я ей тут же возьми да и скажи — что ты, дескать, переодетый гондольером, сегодня катал ее по морю и что ты уже весь измучился, истерзался от любовной тоски, а потом я еще пообещала привести тебя немедля к ней. Тут она поднялась вдруг с подушек, слезы ручьями текут у нее из глаз, и говорит мне так решительно: «Нет, заклинаю тебя, во имя Христа, во имя всех святых — нет — я не могу его видеть! Умоляю тебя, скажи ему, чтобы он никогда — слышишь — никогда не показывался мне больше на глаза, никогда бы не подходил близко ко мне, скажи ему, пусть уезжает из Венеции, уезжает навсегда, пусть скорее уедет!»— «Но тогда, — не выдержала тут я, — мой бедный Тонино умрет от тоски!»— Услышав это, она в изнеможении опустилась на подушки, словно терзаемая невыразимой болью, и, обливаясь слезами, еле выговорила: «А разве мне уготована другая судьба? Разве меня не ждет неминуемая смерть?»— Тут в покои вошел старик Фальери, он подал мне знак рукою, и я вынуждена была удалиться.
— Она отвергла меня — все кончено, — скорее, скорее, к морю! — закричал Антонио вне себя от отчаяния, старуха же захихикала, посмеиваясь на свой обычный манер, и сказала ему:
— Ну какой же ты глупенький, совсем еще ребенок! — Разве тебя не любит прекрасная Аннунциата всем сердцем, всей душой? Разве есть на свете какая-нибудь другая женщина, чье сердце терзали бы такие невыразимые муки? — Глупый ты, глупый, завтра, когда наступит вечер, незаметно проберешься во дворец. Я буду ждать тебя во второй галерее, справа от большой лестницы, придешь — а там видно будет.
Когда на следующий день, сгорая от нетерпения, Антонио тайком прокрался к заветной лестнице, у него вдруг возникло чувство, будто он собирается совершить неслыханно дерзкий, кощунственный поступок. В полном смятении, он с трудом сумел совладать с собою и, дрожа всем телом, едва держась на ногах, с неимоверным усилием поднялся по лестнице и прислонился к колонне прямо у означенной галереи. Неожиданно все вокруг осветилось ярким светом факелов, и не успел Антонио отойти в сторону, как перед ним словно из-под земли вырос старик Бодоери в сопровождении слуг с факелами в руках. Бодоери пристально посмотрел ему в лицо и потом проговорил:
— Ага, я знаю, ты — Антонио, и тебе велели сюда прийти, ну, следуй за мной!
Антонио, уверенный, что все раскрылось и дожу стало известно о назначенном свидании с его супругою, покорно последовал за Бодоери. Каково же было его удивление, когда старик, войдя в небольшую уединенную залу, обнял его сердечно и повел речь о какой-то важной должности, к каковой он, дескать, должен приступить немедленно, той же ночью, что потребует от него немалого мужества и решительности. Его удивление, однако, вскоре сменилось страхом, ужас охватил его, когда он узнал, что давным-давно созрел заговор, направленный против синьории, во главе которого стоит сам дож; как оказалось, еще в загородном доме Фальери было решено этой же ночью свергнуть синьорию и провозгласить Марино Фальери единовластным правителем Венеции. Антонио, словно лишившись дара речи, молча смотрел на Бодоери, который по-своему истолковал молчание юноши и, считая, что за этим скрывается его нежелание принять участие в исполнении этого чудовищного плана, с негодованием воскликнул:
— Презренный трус! Тебе не выйти из дворца! Либо ты умрешь, либо возьмешься за оружие, но для начала побеседуй-ка кое с кем!
Из темноты к Антонио ступил какой-то высокий господин благородного вида. Едва только взглянув в лицо незнакомца, которого он смог заметить только сейчас, при свете свечей, Антонио упал на колени и воскликнул, придя в необычайное волнение при виде этого неожиданно явившегося человека:
— О, Боже правый! Отец мой! Бертуччо Неноло! Мой дорогой воспитатель!
Неноло поднял юношу с земли и, заключив его в объятия, проговорил голосом, полным нежности:
— Да, ты прав, сынок, я Бертуччо Неноло, о котором думали, что он покоится на дне морском, но мне недавно удалось бежать из позорного плена от неистового Морбассана; Бертуччо Неноло, который когда-то взял тебя на воспитание; думал ли я, что, когда Бодоери вступит во владение моим загородным домом и распустит всех слуг, они, неразумные, просто вытолкают тебя на улицу. — Бедный мальчик! Я вижу, ты медлишь, ты боишься взяться за оружие и выступить против кучки жестоких деспотов, по милости которых ты лишился отца? Войди во двор дома Фонтего, ты увидишь — с этих камней еще не стерлась кровь твоего отца. Когда синьория отобрала у немецких купцов их торговый дом, который известен тебе как дом Фонтего, были введены новые правила, согласно которым купцам, пользующимся помещениями этого дома, надлежало всякий раз при отъезде отдавать ключи, а не оставлять их у себя, как это бывало раньше. Против этого-то закона и выступил твой отец, за что он жестоко поплатился. Когда однажды он вернулся из очередной поездки в дом Фонтего, в его покоях среди прочих товаров был обнаружен сундук, полный венецианских монет фальшивой чеканки. Напрасно пытался он доказать свою невиновность, дело было совершенно ясное — видно, в его отсутствие какой-то проходимец, может статься, и сам ключник, затащил этот сундук к нему в комнату, чтобы навлечь на твоего отца подозрение. — И безжалостные судьи, вполне удовлетворенные таким доказательством его вины — дескать, сундук нашли в покоях твоего отца, — приговорили его к смерти! — Его казнили прямо во дворе дома Фонтего. — И тебя постигла бы та же участь, если бы не верная Маргарета. — Я, ближайший друг твоего отца, взял тебя к себе на воспитание, но, чтобы неосторожным словом ты не выдал своего происхождения и не угодил бы в лапы синьории, от тебя скрывали, кто твой отец. — И вот теперь, Антон Дальбиргер, пробил час, возьмись за оружие и отомсти синьории за позорную смерть твоего отца!