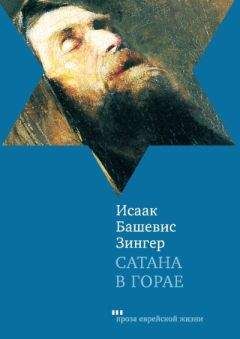Реб Иче-Матес ничего не замечает, продолжает танцевать с платком в руке, его ноги заплетаются, будто он пьян. Лицо сияет, шелковый кафтан насквозь промок, капли пота катятся по бороде, падают на обнаженную волосатую грудь. Пояс развязался и волочится по полу, голова запрокинута, словно он, не отрываясь, смотрит на что-то сквозь низкий закопченный потолок. Реб Мордхе-Йосеф больше не может сдерживаться. Крякнув, он ударяет костылем о пол и пускается в пляс, неуклюже подпрыгивает и кричит:
— Давайте же танцевать, евреи! Не опоздать бы нам! Небесное воинство ждет!..
Было уже за полночь. Ветер, будто веником, гнал сухой снег, наметал огромные сугробы. Местами обнажилась промерзшая земля, белые крыши домов вдруг стали зелеными от мха, покрывавшего гнилой гонт. С треском ломались ветки голых деревьев, испуганно каркали разбуженные вороны. Среди черных, рваных туч летела маленькая, бледная луна. Казалось, город исчезнет в снежном смерче, еще до того, как взойдет солнце.
Сегодня реб Бинуш лег позже, чем обычно. Он лежал в своей комнате на деревянной кровати, в одежде, обложившись тремя пуховыми подушками, укрывшись теплым одеялом, и не мог уснуть. Ветер выл в трубе, стонал, как чья-то грешная, страдающая душа. С чердака, заваленного листами пергамента, доносился шорох и глухое постукивание, будто там двигали что-то тяжелое. Печь была хорошо натоплена, дверь заперта, окна утеплены соломой и ватой, но старику было холодно.
Реб Бинуш пытался размышлять о Торе, как делал всегда, когда сон не шел, но в этот раз мысли бежали слишком быстро, путались, обгоняли друг друга. Он зажмуривал глаза, но они снова открывались. В полудреме ему чудилось, будто несколько человек ведут упрямый, жаркий спор, бесконечный спор о Саббатае-Цви, о Мессии, об избавлении. Реб Бинуш почувствовал, что проваливается в небытие, голоса стали понемногу затихать. Но вместо них внезапно послышался стук в окно. Раввин сел на постели и испуганно спросил:
— Кто там?
— Ребе, это я… Простите…
— Кто «я»?
— Гринем.
У реб Бинуша помутилось в голове, мурашки побежали по коже. Он понял, что ему принесли плохую весть. Однако он тут же совладал с собой и ответил:
— Сейчас!
Раввин встал, нашарил в темноте туфли, набросил на плечи ватный халат и пошел открывать. Второпях он наткнулся на косяк, на лбу вскочила шишка. Дрожащей рукой реб Бинуш снял цепочку, отодвинул засов, повернул ключ в замке. Замерзший Гринем ввалился в комнату, тяжело дыша, будто за ним гнались.
— Ребе! — заговорил он, отдуваясь. — Тысячу раз прошу прощения!.. Там мужчины, женщины, все вместе… У реб Элузера Бабада… Собрались, танцуют… Творят невесть что!..
Реб Бинуш не поверил своим ушам. Чтобы в Горае зашли так далеко? Все же он молча, не мешкая начал одеваться. Нашел в темноте брюки, запахнул тулуп, затянул кушак. Несколько раз опрокинул стул, ударился об угол стола. Раввин чувствовал непривычную тяжесть в ногах, поясницу ломило, спину кололо, как стальными иголками. Он даже закашлялся, чего с ним не случалось уже многие годы. Глаза у старого Гринема светились, как у кошки.
— Ребе, простите… — начал он снова.
— Пошли! — почти выкрикнул реб Бинуш. — Быстро!
Реб Бинуш поднял воротник. Колени дрожали, будто он впервые встал с постели после долгой болезни. Он думал, что на улице будет темно, но, кажется, уже начинался рассвет. От мороза у раввина перехватило дыхание. Ледяные иглы, то ли дождь, то ли снег, впились в лицо, ресницы тут же заиндевели. Раввин огляделся, словно не узнав местечка, хотел взять Гринема за руку, чтобы не поскользнуться, но сильный порыв ветра неожиданно толкнул реб Бинуша в спину и погнал под гору. Раввин, стараясь сохранить равновесие, пробежал несколько шагов. Меховая шапка сорвалась с головы, взлетела, как черная птица, упала на землю и быстро-быстро, подпрыгивая, покатилась, как живая, к колодцу. Реб Бинуш обеими руками схватился за ермолку. Земля качалась у него под ногами.
— Гринем! — закричал реб Бинуш не своим голосом.
Позже он так и не смог понять, как все произошло. Гринем погнался за шапкой вниз по склону, попытался изловить ее, упав на нее животом, затем поднялся, снова побежал и вдруг исчез с глаз. Реб Бинуш с тревогой оглянулся и понял, что дело плохо. Он повернул обратно к дому, но в тот же миг ему запорошило глаза, будто кто-то кинул в лицо горсть песку. Ермолка упала, ветер, как пес зубами, рванул полу тулупа, подхватил реб Бинуша, протащил немного по скользкой дороге и швырнул на землю с такой силой, что кости затрещали. В голове пронеслась мысль: «— Все, конец…»
Это длилось лишь несколько секунд. Прибежал Гринем с шапкой в руках, но, не увидев раввина, подумал, что тот вернулся домой. Гринем принялся стучать в ставни, звать, но никто не открывал. Тогда он понял, что случилась беда, и стал кричать во все горло:
— Помогите! Ребе! Помоги-и-и-ите!
Первой услышала крик жена раввина и тут же растолкала невестку и внуков. Люди просыпались, выскакивали, полуодетые, на улицу. Сперва никто не мог понять, что случилось. У Гринема от страха отнялся язык. Служка только махал руками и мычал как немой. Со всех сторон открывались двери, кто-то решил, что в чей-то дом проникли грабители, кто-то — что начался пожар. Реб Бинуша нашли только через добрых полчаса. Он лежал под каштаном, в двадцати шагах от дома, почти засыпанный снегом. Увидев его, жена упала без чувств, женщины разом заголосили, как над покойником. Но реб Бинуш был жив. Он тихо стонал. Его подняли и отнесли домой. Лицо раввина посинело и опухло, рука была то ли сломана, то ли вывихнута, глаз не открывался. От заиндевевшей бороды шел пар, грузное тело дрожало, как в лихорадке. Его тормошили, спрашивали, что стряслось, кричали в ухо, как глухому, но он не отвечал. Наконец его с трудом раздели и уложили в постель. Зажгли восковую свечу, слабый огонек тускло осветил комнату. Чижа, жена Ойзера, смазала побелевшие губы раввина уксусом, кто-то растер ему виски.
Участники пирушки быстро узнали, что случилось с раввином. Услышав новость, многие расхохотались. Женщины украдкой, по одной стали расходиться.
Свечи догорели, только несколько сырых сосновых веток тлеют на плите, бросая на стены тусклый красноватый свет. Пол затоптан, как попало стоят раздвинутые столы и скамейки. С потолка капает, пахнет водкой и гарью, как после пожара. Рейхеле все еще не пришла в себя. Она лежит на кровати, стиснув зубы, мокрая, с растрепанными волосами. Праведница Хинкеле пытается привести ее в чувство. Вслепую нащупав крючки худыми, костлявыми пальцами, она расстегнула ей кофту, влила в рот несколько капель соку. Теперь она гладит девушку по голове, шепчет ласковые слова, тихо молится. Реб Иче-Матес стоит в углу, отвернувшись к стене, и лопочет что-то заплетающимся языком. Реб Мордхе-Йосеф, выпивший не одну кварту водки, толкает его под локоть и хрипло хохочет, довольный, что его враг Бинуш потерпел поражение.
— Пойдемте домой, реб Иче-Матес, — твердит он. — Уж теперь-то черти за него возьмутся… Да сотрется имя его!..
Глава 14
РЕБ БИНУШ ПОКИДАЕТ ГОРАЙ
Печь у реб Бинуша раскалена добела: с нее осыпается штукатурка, в лицо пышет жаром. Дверь на улицу заперли, и посетители проходят через весь дом, чтобы не выстуживать комнату. Визиты начинаются с раннего утра. На полу — грязные следы, пахнет болезнью и лекарствами. Мужчины толкутся в комнате, трут лбы, кусают бороды, спорят, что делать. Женщины с озабоченными лицами стоят по углам, говорят все разом, сморкаются в фартуки, громко вздыхают. Стол, за которым раввин больше пятидесяти лет изучал Тору, отодвинули в сторону. Дверцы книжного шкафа раскрыты настежь, тонкие резные ножки кресел уже не выдерживают веса многочисленных посетителей, трещат и ломаются, но никому нет до этого дела. Больной лежит под двумя одеялами, ноги еще и укрыты тулупом. На высоком лбу блестят капли пота, глаза закрыты, борода растрепана, как лен, лицо изменилось до неузнаваемости.
В доме раввина полный беспорядок. Жена ходит без платка, с красными, опухшими от слез глазами. Спина ссутулилась, острый подбородок, поросший редкими волосками, трясется, будто женщина, не переставая, что-то говорит. Она так растеряна, что носится по дому с горшком в руках. Дочь раввина, вдова, вместе с невесткой Чижей каждые несколько часов бегают в синагогу, зажигают свечи, открывают ковчег со свитками Торы и так вопят, что ешиботники зажимают уши. Все читают псалмы, женщины измеряют кладбищенскую ограду[25]. Даже Лейви, несмотря на вражду с отцом, путается под ногами у посетителей, позабыв старые счеты. Только Ойзер, как всегда, сидит на кухне, таскает украдкой еду из горшков и быстро, не жуя, глотает, чтобы его не поймали на месте. Лишь изредка он заходит в отцовскую комнату, расталкивает всех локтями и спрашивает, ни к кому не обращаясь: