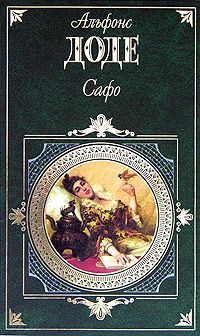Женившись, Сезер ушел из Кастле, поселился на берегу Роны у родителей жены и стал жить на небольшую сумму, которую ему выплачивал брат, а доставляла ежемесячно сердобольная невестка. Маленького Жана мать брала с собой, и всякий раз он приходил в восторг от хижины Абрие — от этой задымленной, своеобразной ротонды, державшейся на одной-единственной прямой, как мачта, подпорке и сотрясаемой то мистралем, то трамонтаной. Когда дверь хижины была отворена, то казалось, что в ее проем, точно в рамку, вставлена невысокая насыпь, на которой сушились сети и сверкало и переливалось оправленное в перламутр живое серебро рыбьей чешуи. Две-три крупные лодки покачивались и поскрипывали у причалов, а там, дальше, — большая, широкая, веселая, искрящаяся река, взъерошенная ветром и набегавшая на острова с купами бледно-зеленых деревьев. Вот когда еще в душе у Жана зародилась любовь к далеким путешествиям, заочная любовь к морю.
Изгнание дяди Сезера длилось года два-три и, пожалуй, так никогда и не кончилось бы, если б не одно семейное событие, если б не рождение близнецов — Марты и Марии. Мать, родив двойню, заболела, и Сезер с женой получили разрешение навестить ее. Затем состоялось примирение братьев, состоялось не по велению разума, а по велению чувства, по всевластному зову крови. Супруги перебрались в Кастле, а так как неизлечимая анемия, вскорости осложнившаяся подагрой, лишила несчастную мать способности передвигаться, то Дивонне пришлось взять в свои руки хозяйство, взять на себя заботу о питании малюток, установить присмотр за многочисленной прислугой, она же должна была два раза в неделю навещать Жана в авиньонском лицее, и это не считая постоянного ухода за больной.
Женщина не только естеством, но и по складу ума, Дивонна восполняла недостаток образования врожденной сметливостью, и эта сметливость в сочетании с чисто крестьянским упорством брала верх над обрывками знаний, случайно застрявших в мозгу ныне укрощенного и послушного Балбеса. Бывший консул свалил на Дивонну все домашние дела, а между тем вести дом становилось все труднее и труднее; заботы росли, а доходы год от году уменьшались: виноградники гибли от филлоксеры. Вся долина была ею поражена, но приусадебный участок еще держался, и усилия консула были теперь направлены к тому, чтобы спасти его путем различных исследований и опытов.
Дивонна Абрие не рассталась со своим головным убором, со стальным кольцом, как у простой мастерицы, держалась скромно, знала свое место — место экономки и сиделки, в самые тяжелые годы избавляла семью от денежных затруднений, по-прежнему окружала больную дорого стоившим уходом, девочки благодаря ей воспитывались, как барышни, плата за учение Жана поступала аккуратно сначала в лицей, потом в Экс, где он изучал право, и, наконец, в Париж, где он заканчивал образование.
Никто не мог понять, да и она сама не понимала, какой чудодейственной бережливостью и рачительностью это достигалось. Но каждый раз, когда Жан переносился мечтой в Кастле, когда он смотрел на бледную, выцветшую фотографию, первая, кого он вызывал в памяти, первая, кого он называл по имени, была Дивонна, простая крестьянка с благородным сердцем, — она пряталась за спиной знати и усилием воли поддерживала ее достоинство. Впрочем, последнее время, с тех пор как он узнал, что собой представляет его любовница, он избегал произносить в ее присутствии это священное для него имя, равно как имя матери и всех своих родных. Ему даже совестно было смотреть на фотографию; ему казалось, что она не туда попала, что ей не место над кроватью Сафо.
Однажды, вернувшись к обеду, он с изумлением обнаружил, что стол накрыт не на два, а на три прибора, а потом с не меньшим изумлением заметил, что Фанни играет в карты с каким-то маленьким человечком, которого он сперва не узнал; когда же человечек обернулся и Жан увидел его светлые глаза, своим выражением напоминавшие глаза дикой козы, нос во все его загорелое и румяное лицо, голый череп и бороду, как у солдата Лиги, он сразу узнал дядю Сезера. На удивленный возглас племянника дядя, не выпуская из рук карт, отозвался:
— Как видишь, я не скучаю — мы играем с моей племянницей в безик.
С его племянницей!
А Жан так тщательно скрывал от всех свою связь! Эта фамильярность ему не понравилась, так же как не понравилось ему и то, что Сезер шептал, пока Фанни хлопотала с обедом:
— Поздравляю тебя, мой мальчик… Глаза… ручки… Королева!..
Дело пошло еще хуже за столом, когда Балбес пустился в откровенности насчет положения дел в Кастле и насчет того, зачем он приехал в Париж.
Предлогом для поездки явилась необходимость получить деньги: когда-то он дал взаймы восемь тысяч франков своему приятелю Курбебессу, и он уже махнул на них рукой, как вдруг нотариус известил его о смерти Курбебесса — «Бедняга!» — и о том, что он хоть сейчас может получить восемь тысяч франков. Но деньги ему могли прислать, истинная причина его приезда, «истинная причина — это здоровье твоей матери, мой милый… За последнее время она очень ослабела, стала заговариваться, все забывает, забывает даже, как зовут девочек. Недавно твой отец вышел вечером из ее комнаты, а она спрашивает Дивонну, кто этот любезный господин, который так часто ее навещает. Обратила на это внимание твоя тетка, все рассказала мне и послала в Париж посоветоваться с Бушро: он ведь когда-то лечил твою бедную мать».
— У вас в семье были ненормальные? — с важным, ученым видом, который она переняла у Ла Гурнери, осведомилась Фанни.
— Нет… — ответил Балбес и тут же с лукавой улыбкой, от которой все лицо его сморщилось, добавил, что в молодости он сам был слегка помешан: — Но мой род помешательства нравился дамам, и меня держали на свободе.
Жан смотрел на них с раздражением. К печали, которую ему причинила грустная новость, примешивалось чувство досадной неловкости оттого, что Фанни с непринужденностью опытной женщины, поставив локти на скатерть и набивая папиросу, рассуждает о его матери, о ее недомоганиях, вызванных критическим возрастом. А этот нескромный болтун выдает одну семейную тайну за другой.
Да, а тут еще виноградники… Пропали виноградники!.. И тот, что при усадьбе, долго не просуществует. Половину тля сожрала, остальное сохранилось чудом, благодаря тому, что за каждой кистью, за каждой ягодкой ухаживают, как за больными детьми, а то, чем поливают, стоит дорого. На беду, консул упрямится, вот что самое скверное: вместо того чтобы пустить плодородную, даром пропадающую землю, на которой торчат сраженные, погибшие кусты, под оливы и под каперсы, он упорно подсаживает новые лозы, а тля их пожирает.
К счастью, у него, Сезера, есть несколько гектаров на берегу Роны, и там виноградники сохранились благодаря обводнению; это замечательный способ, но его можно применять только в низких местах. Сезер уже собрал славный урожай, — правда, винцо не очень крепкое, консул отзывается о нем с презрением: «Водичка!» — но Балбес тоже уперся, и теперь, получив восемь тысяч франков долгу, он купит Пибулет.
— Ты, мальчик, конечно, помнишь, где это: ближайший к нам остров на Роне, ниже того места, где стоит домик Абрие… Но это между нами, в Кастле никто об этом не должен знать…
— И Дивонна тоже, дядюшка?.. — усмехаясь, спросила Фанни.
При имени жены глаза Балбеса увлажнились.
— О, без моей Дивонны я никогда ничего не предпринимаю! Притом она верит в успех моего предприятия и была бы счастлива, если б бедный ее Сезер, начав с разорения Кастле, в конце концов упрочил бы его благосостояние.
Жан затрепетал. Неужели дядюшка будет продолжать свою исповедь и расскажет позорную историю с подлогом? Но провансалец, исполненный нежности к своей Дивонне, заговорил о ней и о том, как он с ней счастлив. А какая она красавица, как великолепно скроена!
— Вы, племянница, как всякая женщина, должны знать в этом толк.
Сезер достал из бумажника ее карточку — он никогда с ней не расставался.
По сыновней привязанности, неизменно звучавшей в голосе Жана, когда он говорил о Дивонне, по материнским наставлениям, какие посылала ему эта крестьянка, по ее размашистому и не очень уверенному почерку Фанни составила себе о ней представление как о типичной сельчанке из департамента Сена-и-Уаза, в косынке, концы которой завязываются надо лбом, и была поражена ее красивым лицом с чистыми линиями, которые высветлял белый гладкий чепец, ладным и гибким станом тридцатипятилетней женщины.
— Да, правда, очень хороша… — каким-то особенным тоном, поджимая губы, заметила Фанни.
— А как скроена! — подхватил помешанный на этом дядюшка.
Все трое вышли на балкон. День выстоял жаркий, цинковая кровля все еще была накалена, а сейчас из одинокой тучки шел мелкий, как из сита, дождик, охлаждавший воздух, весело стучавший по крышам и грязнивший тротуары. Париж радовался дождику. Сновавшие взад и вперед пешеходы, экипажи, долетавший до балкона уличный шум — все это действовало опьяняюще на провинциала, вызывало в его пустой и подвижной, как бубенец, голове воспоминания молодости — лет тридцать тому назад он ведь прожил здесь три месяца у своего приятеля Курбебесса.