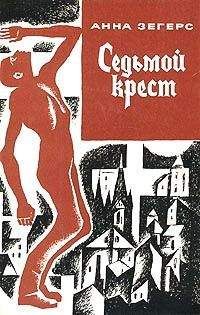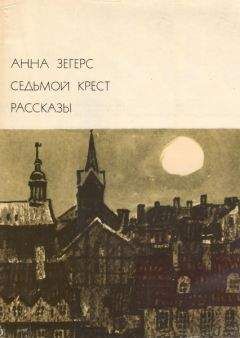– Конечное дело, если бы целый год да по куску сала от «ближних» Марнетов, это небось пришлось бы твоей Эльзе больше по вкусу, – говорили ему друзья.
– Ну, к празднику ведь принято что-то дарить! – отвечал Герман. – Зато ей приходится навещать их и подсоблять во время жатвы, и когда большая стирка, и когда убой, ведь она член семьи.
Но сама Эльза очень рада была и сухарнице, и всем новым вещам. Круглое личико, восемнадцатилетнее, зеленые глазенки. Правильно ли он поступил, не раз спрашивал себя Герман, что взял в жены такое дитя – и только оттого, что она была милая и ласковая, а он уже столько лет жил вдовцом и последние три года был так невыносимо одинок.
Эльза распевала в кухне. Голос у нее был и не очень сильный и не очень звучный, но, так как она пела от чистого сердца, голос лился, точно ручеек, то печально, то весело, смотря по тому, что у нее было на душе.
Герман хмурился от смутного чувства вины. Они с Францем разложили шахматную доску, сели друг против друга и рассеянно сделали по три хода, с которых обычно начинали партию. Затем Франц начал рассказывать. Он весь день так ждал этой минуты, что когда она наконец наступила и он мог все выложить, его рассказ был несколько сбивчив. Герман иногда вставлял короткие реплики. Да, и до него дошли какие-то слухи. Во всяком случае, надо быть наготове. Может быть, это не только болтовня, вдруг кто-нибудь появится, нужна будет помощь. Герман утаил даже от Франца то, что слышал сам: будто прежний секретарь районной организации Валлау, отличный товарищ, которого он знал раньше, бежал из лагеря Вестгофен. Он слышал даже, будто фрау Валлау принимала какое-то участие в организации побега – обстоятельство, сильно его встревожившее. Ведь если это правда, то никто об этом не должен был бы знать. А насчет Георга, о котором расспрашивает Франц, нет, он ничего не слышал.
– Тут надо очень подумать, – сказал он. – Удавшийся побег – это уже кое-что.
Должно быть, не один только Франц в эту осеннюю ночь лежал без сна, размышляя: а что, если и мой среди них? Не он один мучился мыслью, что среди бежавших из лагеря может быть и тот, о ком он так неотступно думал. Франц перевертывался с боку на бок в каморке, которую себе выговорил с тех пор, как начал платить родным за стол и квартиру. Вчера вечером наспех прибили к стене еще несколько полок – уж очень велик был урожай яблок.
Франц опять встал и высунулся в окошко – от запаха яблок у него кружилась голова. К счастью, во вторник все это увезут на рынок. И хотя ему уже не хотелось, он все-таки потянулся еще за яблоком, торопливо съел его, а огрызок выбросил в сад. Стеклянный шар, сиявший днем над астрами и анютиными глазками красивым голубым светом, теперь отливал серебром, словно сама луна скатилась сюда с неба. Так как сад тянулся вверх по холму, то небо начиналось прямо за оградой, – сверкающее звездами, в мирном соседстве с землей.
Франц вздохнул. Он снова лег. Почему из всех именно Георг должен быть тут замешан, спрашивал себя Франц в сотый раз. И еще он думал: Георг, а может, кто другой… Но тот, о ком он думал, был другом его юности. А был ли он действительно твоим другом? Конечно, был. Мой лучший, единственный друг, твердо решил Франц. Эта мысль его глубоко потрясла.
Когда он познакомился с Георгом? Да, в двадцать седьмом, в лагере рабочего спортивного общества Фихте. Ах, нет, гораздо раньше. Он встретился с ним на футбольной площадке в Эшенгейме, вскоре после того, как оба они окончили школу. Он, Франц, настолько плохо играл в футбол, что никто не стремился заполучить его к себе в команду. Поэтому-то он и насмехался над такими парнями, как Георг, которые ничего, кроме футбола, знать не хотели. «У тебя, Георг, вместо головы на плечах футбольный мяч», – заявил он однажды. Глаза Георга сузились и стали злыми. И конечно, не случайно Георг на следующий же день послал ему мяч прямо в живот. Скоро Франц перестал ходить на футбольную площадку, – это было не то поле деятельности, где он мог проявить себя, хотя его все вновь и вновь туда тянуло. Ему даже и потом частенько спилось, что он вратарь эшенгеймской команды.
Четыре года спустя он снова встретился с Георгом на лекциях, которые уже сам читал в лагере Фихте. Георг рассказал ему, что в лагерь его привлекли недорогие уроки джиу-джитсу, а курс он решил будто бы прослушать просто от скуки, н что он даже не подозревал, что лектор Франц – это тот же незадачливый Франц с футбольной площадки, вдруг вынырнувший здесь в роли лектора. И глаза Георга снова сузились, в них вспыхнули искорки ненависти, словно он хотел отомстить за что-то, за какое-то поношение или позор. Он, видимо, решил сорвать Францу его курс. Но когда его выходки встретили общее неодобрение и весь класс им воспротивился, он сам после второго же раза бросил ходить. А Франц не переставал издали наблюдать за ним. Красивое смуглое лицо Георга часто становилось надменным; и держался он как-то чересчур прямо, словно хотел подчеркнуть этим свое снисходительное презрение ко всем, кто был не так силен и красив, как он. И только во время гребли или борьбы, когда он забывался, его лицо становилось добрым и оживленным, как будто ему наконец-то удалось уйти от самого себя. Франц, побуждаемый ему самому не понятным любопытством, отыскал анкету Георга: учился на автомобильного механика, с окончания школы – безработный.
Следующей зимой Франц столкнулся с Георгом на ежегодной январской демонстрации. Тот снова улыбался своей застывшей, почти презрительной улыбкой. Только во время пения лицо его смягчилось. Они встретились после демонстрации возле трамвайной остановки. У Георга на скользком городском снегу отскочила подметка. И тут у Франца мелькнула мысль, что Георг такой человек, который и босиком прошел бы с демонстрацией весь путь. Он спросил Георга, какой он носит номер обуви. Георг ответил: «Сын моей матери сам себе башмак починит». Франц спросил, не хочет ли он посмотреть кое-какие фотоснимки из лагеря Фихте. Там есть, мол, и он, Георг. И конечно, Георгу очень захотелось увидеть снимки, особенно те, на которых он участвует в состязании по плаванию и по джиу-джитсу.
– При случае я, разумеется, взглянул бы, – сказал он.
– А какие у тебя планы на сегодняшний вечер? – спросил Франц.
– Какие у меня могут быть планы? – отозвался Георг. Оба без видимой причины смутились. Всю дорогу до Старого города они молчали. Теперь Франц охотно бы придумал предлог, чтобы отделаться от Георга. И для чего он зазвал к себе этого парня! Он ведь хотел почитать. Франц зашел в магазин, купил колбасы, сыру и апельсинов. Георг ждал перед витриной, его лицо было почти мрачно, без обычной улыбки. Франц, совершенно не понимавший, почему он мрачен, наблюдал за Георгом в окно магазина.
Франц жил в то время на Гиршгассе, под одной из уютных горбатых шиферных крыш. Комната была маленькая, с косым потолком и дверью на лестницу.
– Ты здесь совсем один живешь? – спросил Георг.
Франц рассмеялся.
– Семейством я еще пока не обзавелся.
– Значит, ты живешь совсем-совсем один? – продолжал Георг. – Ну, тогда понятно!
Его лицо окончательно омрачилось. А Франц догадался, что Георг, видимо, ютится в тесноте, в большой семье. Это «ну, тогда понятно» означало: «Вот как ты живешь. Не удивительно, что ты такой умный».
– Может быть, хочешь ко мне переехать? – спросил Франц. Георг удивленно уставился на него. На его лице не было и следа улыбки, никакого высокомерия, словно его застигли врасплох и он не успел вооружиться своим обычным выражением.
– Я? Сюда?
– Ну конечно.
– Ты это серьезно? – вполголоса спросил Георг.
– Я всегда говорю серьезно, – отозвался Франц.
На самом деле вопрос о переезде он задал отнюдь не серьезно, эти слова как-то нечаянно вырвались у него. Серьезность, даже мучительную серьезность он приобрел только потом. Георг побледнел. Франц только сейчас понял, что эти случайные слова имеют для Георга безмерное значение, может быть, это поворотная точка его жизни. Он схватил Георга за локоть.
– Значит, решено.
Георг высвободил локоть.
Он сейчас же от меня отвернулся, вспоминал Франц, он подошел к окну и совершенно заслонил мое маленькое оконце. Был вечер, зима. Я зажег свет. Георг сел верхом на стул. Его темные густые волосы прямыми прядями спадали с макушки на лоб. Он чистил себе и мне апельсины.
Я взял кувшин, продолжал вспоминать Франц, чтобы принести воды из коридора. Я остановился в дверях, а он посмотрел на меня. Его серые глаза были совсем спокойны, и эти чудные злые точки в них, которых я в ранней юности так боялся, исчезли. Он сказал: «Я, знаешь, как-нибудь всю нашу комнату покрашу. Вон из того ящика я сделаю тебе полку для книг, а из этого хорошего ящика с запором – шкафчик. Как новый будет! Вот увидишь!»
Вскоре после этого Франц и сам потерял работу. Они вносили свои пособия по безработице и случайные заработки в общую кассу. Какая это была зима, вспоминал Франц, ни с чем не сравнишь ее из того, что им пережито раньше или позднее! Маленькая комнатка с косым потолком, уже выкрашенная в желтый цвет. На крышах снеговые шапки. Вероятно, они тогда с Георгом здорово голодали.