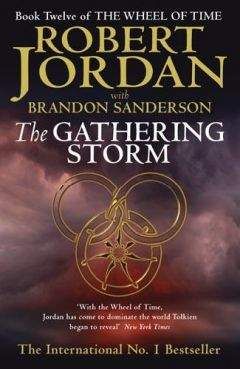Я брожу среди старых полуосыпавшихся могил, читаю старые стершиеся надписи на накренившихся памятниках. Издали заметил меня могильщик реб Арье, человек с длинной льняной бородой, красными глазами, и спросил:
— К кому тебе нужно?
Реб Арье так стар, что никто, даже сам он, не помнит, сколько ему лет. А все ж таки содержит он себя в чистоте и опрятности, сапожки его начищены, борода расчесана, ухожен у него каждый волосок; следит за собой старый, как мать за любимым единственным сыном, питается только мягкой едой, каждое утро пьет отвары лечебных трав с леденцами. «Ему хорошо, уж куда лучше!» — говорят о нем в Касриловке и от души ему завидуют.
— Шолом алейхем, реб Арье, как вы поживаете? — откликаюсь я и подхожу к старику.
Уже вечер. Солнце близится к закату и золотит верхушки могил. Реб Арье, прикрываясь ладонью, оценивает меня взглядом своих красных глаз и поглаживает бороду.
— Кто ты такой? Ты к кому?
Реб Арье так стар, что может позволить себе обращаться ко всем на «ты».
Говорю ему, кто я такой и к кому пришел. Реб Арье узнает меня, почтительно здоровается и, шамкая, говорит с присвистом:
— А? Так это ты? Знал я твоего отца и деда твоего — реб Вевика, золотой был человек, и дядю Пиню — тоже почтенный человек, и дядю Берку, он тоже лежит здесь у меня, и тетю Хану — всех я знал, все померли, все самые прекрасные люди поумирали. Ни одного порядочного не осталось. Мои все тоже умерли (он вздыхает и машет рукой). Сначала детей схоронил, всех детей схоронил, потом и сама праведница моя приказала долго жить, оставила меня одного на старости лет. Нехорошо.
— Нехорошо? — спрашиваю.
— Нехорошо, — повторяет он, — нехорошо, не стало покойников.
— Не стало покойников? — говорю я.
— Не стало покойников, — говорит он.
— Перестали, что ли, — говорю, — умирать у вас в Касриловке?
— Смотря по тому, что значит «умирать»! — отвечает он. — Умирать-то умирают, но что в том? Мелкота, птенцы, голь перекатная; что на них заработаешь, по правде говоря! Соберешь им на саван, а после первой надгробной молитвы сироты дарят тебе кусок хлеба. Что поделаешь? Что еще остается? (Он показывает высохшей рукой на плачущих женщин.) Вот ведь лежат они, растянулись, как барыни, на могилах. Что на них заработаешь? Придут, наплачутся, жалко им, что ли, слезы лить? Разве это им денег стоит? А ты ходи, води всех, показывай, где лежит отец, где лежит мать, где лежит дядя, где лежит тетя. Словно я им слуга потомственный! А то, случается, плачет-плачет иная, пока не сомлеет, и приходится отхаживать ее, дать глоток воды, иной раз — и кусок хлеба.
А где мне взять? Из больших моих доходов? Покойников нет, а жить-то ведь надо, и замуж выдать внучку, сиротку, девушку уже на возрасте, тоже надо; был жених, дело почти до сватовства дошло, как раз неплохой молодой человек, торговец книгами, правда, вдовец с несколькими детьми, но зато зарабатывает, прекрасно зарабатывает, то есть когда он торгует, когда есть выручка — есть и заработок. Устроили смотрины, пришли к согласию и уже собирались писать брачный контракт. Вдруг он говорит: «Ну а как обстоит дело с приданым?» Я говорю: «Какое приданое?» А он: «Мне же сказали, что вы даете полсотни в приданое». Я говорю: «Вражий наговор, ни сном ни духом в том не виноват! Полсотни? Откуда у меня полсотни? Красть, что ли, пойду или стану выкапывать из могил чужие саваны и продавать?..» Короче, сватовство расстроилось. Вот и говори после этого с касриловскими заправилами, они же еще и правы окажутся, скажут: «Реб Арье, вы грешите, у вас, не сглазить бы, в руках верный заработок…» Хорош заработок! Если где еще и водился порядочный покойник, почтенный человек, захудалый богач, он давно уже похоронен, а свежих не прибавляется. Не стало покойников! Не стало!
Нет ничего на белом свете, о чем рано или поздно не узнают в Касриловке. Нет в мире таких новостей, которые не донеслись бы даже и до маленьких людей.
Что и говорить, по дороге они малость устаревают, что и говорить, они не из первых рук — и что с того? Большое дело! У нас даже считают, что это плюс, огромный плюс! Ведь между нами, ну узнают касриловские евреи о нынешних радостных долгожданных, утешительных событиях в мире, на месяц-два, а то и на год позже — невелика беда!
Короче говоря, дошло и до маленьких людей в Касриловке — хоть и с запозданием — новое словечко — сионизм.
Поначалу что бы оно значило, точно поняли не все. Ну а после, когда в Касриловке догадались, что слово «сионизм» идет от того самого Сиона из молитвенника, что сионисты это те, кто хотят переправить всех евреев в Землю обетованную, то-то было смеху — наши хватались за бока, животики надрывали! Так хохотали — вся округа слышала. А уж какие шутки отпускали в адрес доктора реб Герцля, доктора Нордау и всех остальных докторов — прямо собирай их, записывай да издавай отдельной книжкой. И хотите верьте, хотите нет, а книжка вышла бы поостроумнее этих анекдотиков и притч, что печатают на оборотах календарей!
И вот ведь что хорошо в касриловцах — они посмеются-посмеются, а как отсмеются, обдумывают, и не раз, над чем смеялись, пока не додумаются, в чем тут суть. Так и с сионизмом — сперва над ним насмеялись, наглумились, а потом стали слушать, что про него говорят, читать про него в газетах да друг дружке пересказывать. Ну а потом пошли слухи о каком-то банке, еврейском банке с еврейскими акциями, а раз так, стало быть, речь о деле, о гешефте, о деньгах — ну а с деньгами чего только не провернешь в наше время! Особенно когда имеешь дело с турками в этих красных ермолках, ведь турки-то эти такие же голодранцы, как и касриловцы!
Так что касриловцы прикипели к сионизму. Они, слава Богу, люди не упертые. Еще вчера казавшееся им немыслимым, как рассечение Чермного моря, сегодня представляется им не сложнее, чем съесть бублик или раскурить папироску! Выкупить у турков Землю Израиля — чего проще. Да вы сами подумайте, за чем дело стало? Не в деньгах же закавыка. Да один Ротшильд, захоти он, может скупить всю Землю Израиля, со Стамбулом и турками в придачу! И сговорятся они — сговорятся, как же иначе! — для начала, как водится, поторгуются, — но вообще-то рублем меньше, рублем больше — невелика разница! А если турок не захочет продать? Скажете тоже! Почему ему не захотеть? Деньги ему нужны позарез, а кроме того, мы с ним как-никак свои люди, да нет, родня, можно сказать, братья, Исаак и Исмаил…
Короче, посовещались, и не раз, — и с Божьей помощью учредили организацию — и тебе члены, и председателя избрали, и сопредседателя, и казначея, секретаря, и поверенного — все как у людей. Обязались платить членские взносы — кто копейку в неделю, а кто и две. Парни произносили речи — говорили зажигательно. Слова «сионизм», «сионисты» зазвучали все громче. Имена доктора Герцля, доктора Нордау и других докторов замелькали в разговорах все чаще. Членов становилось все больше, взносов собрали столько, что пришлось специально провести общее собрание, надо же было решить, что делать с такими деньжищами: не трогать капитал касриловским сионистам и создать свой фонд, отправить деньги в центр или, подсобрав еще средств, купить акции еврейского банка?
Такого шумного собрания, как это общее собрание, доложу я вам, в истории Касриловки и не упомнят. Мнения разделились. Одни выступали за центр: мол, мы должны поддерживать центр — иначе на что центру жить? Другие возражали: центр, говорили они, как-нибудь перебьется и без касриловских капиталов, мы что, подписались весь мир опекать? А Касриловку кто-нибудь опекает? Если б каждый сам о себе заботился — больше было бы толку!
Но тут встал председатель, Ноях, зять богача Иоси, парень образованный, но совсем молодой, у него и бородка еще не пробилась, — дал им прикурить.
— Четыре тысячи лет, — председатель Ноях так с ходу начал, краснобай был тот еще, — четыре тысячи лет смотрят на нас с этих пирамид. Так обратился к своей гвардии великий Наполеон, когда отправлялся завоевывать Египет. С такими же словами, пусть и с небольшой поправкой, мне хочется обратиться к вам. Вот уже без малого две тысячи лет, братья мои, мы пребываем не на высоте пирамид, а в самом-самом низу. Вот уже почти две тысячи лет мы смотрим, нет, не на нашу гвардию, а смотрим вдаль, не явится ли нам Мессия и не вызволит ли нас, не приведет ли в край наших отцов, в Землю Израиля… Вот уже почти две тысячи лет, как мы постимся семнадцатого тамуза[32], девять дней не едим мяса и, обливаясь слезами, Девятого Ава[33] сидим в рубище на земле, скорбя по разрушенному Храму… Вот уже почти две тысячи лет, как мы по семьдесят и семь раз на дню вспоминаем Сион и Иерусалим. И вот я спрашиваю вас: а что сделали мы ради Сиона, ради Иерусалима?
Стенографов в Касриловке еще не завели, так что никто не записал замечательную речь председателя Нояха слово в слово, и это большое упущение. Поэтому нам остается довольствоваться несколькими тезисами, которые запали в память, и ограничиться финалом его блистательного выступления.