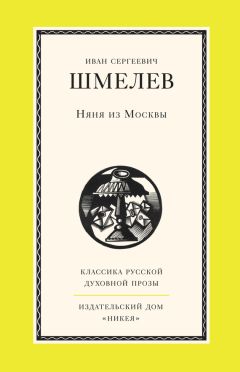«Ну, и что хорошего, – скажу, – у человека кость Божья, а у тебя уж слоновая стала».
Душить меня примется, хохотать. А потому и вышучивала ее, в ум чтобы привести.
В зерькало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит, – скажите мне последнее слово… – а она ему враспев так, зевает словно:
«Да я еще не зна-ю… да хочу себя уве-рить, люблю или не люблю-у…»
Тут уж он осерчал. Встал и говорит, твердо так:
«А долго это будет, когда вы себя уверите?»
«А это как зависит… может, и год… а может – и пять!..»
Чуть я не крикнула – ах, ты, ломака-ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно… хороший человек страдает, а она – в зерькало!.. Он походил, пальцами потрещал… А она головку так, и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит:
«Прощайте, и будьте счастливы».
И пошел. А она вдогон:
«Погодите, не уходите…»
Он сразу обернулся, а она на столик показывает:
«Вы забыли… возьмите ваш кулон».
Так он и озирнулся! Сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала. А картузик он забыл, – на лестнице окликнула, отдала. Только ушел – Катичка ко мне:
«Что, ничего не сказал?..»
«Ничего, плюнул только! – и сама плюнула. – Швыряйся, матушка, прошвырнешься».
«Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка!» – мне-то.
Навязалось на язык – улитка и улитка. Плакала от обиды: вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней что, за мокрохвостой, перестирала… – и теперь я улитка! Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства, сердечко у ней доброе… а обидно. Да что, к тому и шло… а вот что людей людями перестали считать.
Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали… как старичка мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее… Без шапки он, лысенький, прикрыться нечем, а они его держат за руки, и по шее, по шее… Никто и не заступился, – он, говорят, генерал! Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, – не золотарь. Крикнула – «старого человека, живодеры!..» – чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный, с садиком, и курами на покое занимался. Как царя смещали, хавос-то пошел, бабы у булочной шуметь стали, хлеба мало выдают, немцам, мол, передают. Ну, он вышел к воротам, стал резонить, дурами и назвал. Его бунтари схватили – и давай! Выпустили после, а никто и в портокол не писал, били-то его… полицию уж разогнали. Ходила его утешать, – яички мы у него свеженькие брали для Катички, – он мне и жалится:
«Два сына воюют, а отца тут бьют… – и заплакал в яички. – Теперь нам-старикам помирать надо».
Скоро и помер, в голову ему кинулось. И лучше, помер-то… дальше уж не видал, самого светапредставления.
Ну – улитка и улитка. А то – «выметайся-выметайся», – чисто я пыль какая. Да любит она меня, а к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимают, барыня… сущую правду говорю. Вот, барыня говорила-то: «для бедного сословия хлопочем!..» – а вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали, а… с кого спросишь-то! Они из книжек все, жизни нашей не понимают, а книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из заграницы приедут – вот нахваливают: чи-стый рай там, никого не обижают, все друг дружке вы-кают… и жалованье всем какое, и умные все, и благородные… у нас бы так! Раздумаешься, – несчастные мы какие, а там и бедных нет, нас-то за что обошел Господь!
Повида-ла теперь… в Крыму еще повидала заграничных. Все понятие повидали с Катичкой. Ни в жисть бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня, старуху, за ворот… да щеголи-то какие, на острова как нас вывезли из Крыма. Катичка так и ахнула, что они говорят про нас.
Стали нас выпускать… Это уж как мы сколько ден у берега качались, на корабле нас держали, от заразы будто. А которые говорили, – пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить… исхлопотал нас кто-то. А сколько-то тыщ казаков наших, потом уж это мы узнали, они к большевикам отослали, на муку-мученьскую. Хлебца им пожалели… А нас-то барыня… дочиста ведь ограбили! Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а округ нас на лодках ихние торгаши, хлебцем машут, выманивают!.. «Давай ба-ра-слет… кольцо давай, дипломат давай!..» – с голоду все отдашь. До ниточки раздели, у кого не было запасца. Повидали… Ну, стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились… у того девочка померла, та мужа не найдет, у того мать-старушка кончается… – ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные. Говорили нам – в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили, в Крыму, из Катички. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют. И при них стража с ружьями, – для почета, говорили. Катичка и слышит, понимает ихний разговор… а они думают – все мы неучены, каки-нибудь арапы, не понимаем: «и чего к нам везут сброд этот… корми еще их, изменщиков!» Так Катичка и обомлела. А она огонь-порох, сердца не удержала, и крикни им… истинный вот Господь, она мне потом сказала:
«А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить! С младенчика и начните, с грудного вот!.. – на младенчика, правда, показала, – а потом вот старушку эту…» – и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то с хлыстом. А тут мурластый один, в золотых тесемках, кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катичке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех!.. утопите, утопите!..»
Напугалась я, ну-ка она упадет без памяти, бывало с ней. Те – от нее, картузы посняли, бормочут что-то, а она пуще пушит!
«Или рано еще топить?.. Не все карманы вывернули, пользы мало?! Лучше зарежьте, съешьте!..»
А потому… все ведь, барыня, знать надо, в Крыму что они разделывали. Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли, за грош. Потом молодчики эти в гости к нам приходили, такие вежливые… ну, вот подите, лукавые какие.
Ну, хорошо… улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня – и давай по зале танцевать-напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю, лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушала за дверью, – в поду шк и икает-плачет. Я так и знаю – примется меня звать. С детства у ней уж так: чуть что, и – ня-ня! Слышу – ну, как маленькая когда была: – «ня-ань… подии…»
Вошла, села к ней на постельку. Она одним глазком выглянула, – глазки-то у ней сухие.
«Скажи, не застрелится он от меня?» – в подушку, стыдно уж ей меня.
«Есть с чего стреляться! – говорю, – завтра за него первая графиня выскочит, не тебе чета… мигнет только».
Ну, чисто я нагадала! А вот, послушайте. Поулыбалась она как-то так, завела глазками… – «Завтра же прибежит».
И просчиталась, больше и не пришел. А она все окошки проглядела, два дни никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, – так и бежит. А барин и прочитал в ведмостях, – на раненых брилиянтовый кулон пожертвовали, и пропечатано так – «от русской девушки», а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем пондравилось, благородно как поступил. И Катичке пондравилось. Поджала губки – и говорит:
«Как это красиво… я его уважа-ю…»
Я еще ей сказала:
«Не красиво, а доброе дело сделал… а красива-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же. И сиди без кулона, за тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя».
«Как так похоронил?!»
«А так. После покойников все так, либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес тот твой разве бы подал, – сам бы и прогулял. Какой-такой… а на стенке пришпилен, молишься на него».
Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший… А у барина долгов… сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался, с барыней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: умеешь, дескать, себя ценить. Королевича, что ли, ей, – ценить-то! Набили ей в головку… А я, про себя сказать, чего ждала… Богатства ихнего мне не надо. А так, думалось по-человечески… – вот, гнездо завьют, к Катичке перейду, за хозяйством поприсмотрю, детки пойдут… Да и на безалаберь ихнюю смотреть уж надоело, и к Катичке я привыкла. Она все мне, бывало, сулилась:
«Вот, нянь, погоди, выйду я замуж… я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам…» Это еще когда ей годков двенадцать было, вон когда, рассудительная была какая. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь-честью, как Иван-Царевич серого волка хоронил…»
Что уж теперь, честь-честью… Свалят куда-нибудь, и лежи с чужими, никто и не придет. И земля тут словно какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки… и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а все грязь… и не потает, бугорочков-могилок не покажет… Господи-Господи!.. Придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское… с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашеных, пирожков с яичками, кваску бутылошного. Весь день проведем, бывало, на могилках, родные у ней там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Че-ремухи, рябинки, бузина-а… и вербочки уж, зеленые-зеленые… и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая, к заборчикам… на щи зеленые наберем дорогой… Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам… весело так, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадочки где горят… тишь такая. А к вечерку как пойдем, у прудов заросли такие… Пасха ежели поздняя, соловушки поют! Ну, что ж это такое только!.. И везде народ, родное все, барыня… и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут… что уж и говорить. В церкви вон читают, придет день Страшного Суда, все воскреснем… – и очутишься бо-знать с кем, не в своей стае-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься, а думается так, по-живому…