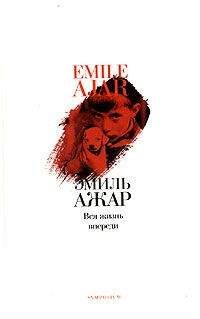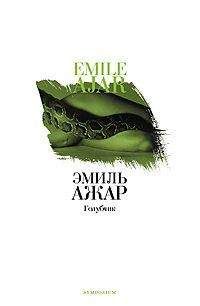— Что это здесь? Вроде детского сада?
Мне его даже жалко стало, до того у него озадаченный вид был, будто такое невозможно. Махут — тот весь исстрадался, бедняга, ведь это он свое счастье загнал в зад мадам Розе.
— Но все-таки как же так можно? И кто достал этой почтенной даме героин?
Я смотрел на него, засунув руки в карманы, и улыбался, но говорить так ничего и не стал — к чему, ведь это был всего-навсего тридцатилетний пацан, совсем еще зеленый, которому только еще предстояло всему научиться.
Спустя несколько дней мне здорово повезло. Надо было наведаться в один большой магазин на площади Оперы, где на витрине цирк, чтобы родители приходили с малышами задаром. Я бывал там уже раз десять, но в тот день пришел слишком рано, жалюзи еще были опущены, и я покалякал о том о сем с одним африканцем-подметальщиком, которого я вообще-то не знал, но который точно был из Африки. Жил он в Обервилье, где чернокожих тоже полно. Мы выкурили сигарету, и я немного поглазел, как он подметает тротуар, потому что заняться больше было нечем. Потом я вернулся к магазину и там наконец отвел душеньку. Вокруг витрины горели звезды крупней настоящих, которые то зажигались, то гасли, словно подмигивали. А внутри был цирк: клоуны, космонавты, которые улетают на луну и возвращаются оттуда, приветствуя прохожих, акробаты, которые, как им и положено, легко кувыркаются в воздухе, белые танцовщицы в пачках на спинах лошадей и мускулистые силачи, которые играючи поднимают невероятные тяжести, потому что снабжены для этого механизмами. Там был даже пляшущий верблюд и фокусник — у него из шляпы друг за дружкой выходили кролики, делали круг по арене и запрыгивали назад в шляпу, а потом все по новой, потому что представление было непрерывным и остановиться не могло, это было выше его сил. Клоуны были разодеты в пух и прах — голубые, белые, всех цветов радуги, и у каждого в носу загоралась красная лампочка. Позади арены толпились зрители — не настоящие, а понарошку — и без передыху хлопали в ладоши, для того они и были сделаны. Космонавт, достигнув луны, выходил из ракеты и приветствовал зрителей, и ракета послушно ждала, покуда он не кончит кланяться. А когда тебе начинало казаться, что ничего нового уже не увидишь, из своего загона выходили потешные слоны и кружили по арене, держась друг дружке за хвост, и самый последний был еще малыш и весь розовый, словно только что родился. Но для меня гвоздем программы были клоуны, не похожие ни на что на свете: физиономии у всех самые немыслимые, глаза вопросительными знаками, и все такие прохвосты, что все время ужасно всем довольны. Я глядел на них и думал, до чего забавно выглядела бы мадам Роза, будь она клоуном, но в том-то и дело, что она никакой не клоун, и это самое поганое. Штаны у клоунов то и дело спадали и снова надевались, публике на потеху, а из их музыкальных инструментов вместо того, что в обычной жизни, вылетали искры и струйки воды. Клоунов было четверо, и верховодил среди них белый в остроконечном колпаке, в штанах пузырем и с лицом белей, чем все остальное. Другие отвешивали ему поклоны и по-военному отдавали честь, а он награждал их пинками в зад — он только этим всю свою жизнь и занимался и остановиться не мог, даже если б захотел, так уж его настроили. Он делал это не по злобе, а чисто механически. А вот желтый клоун в зеленых пятнах, тот постоянно радовался, даже когда сворачивал себе шею, — он выступал на проволоке и все время оттуда срывался, но воспринимал это с юмором, как настоящий философ. На нем был рыжий парик, который от ужаса вставал дыбом, когда он ставил одну ногу на проволоку, потом другую, пока все ноги не оказывались на проволоке и он уже не мог двинуться ни вперед, ни назад и принимался дрожать со страху, чтобы насмешить, потому что нет ничего смешнее, чем испуганный клоун. Приятель его, весь голубой и ласковый, держал в руках крохотную гитару и пел на луну, и видно было, что сердце у него очень доброе, но он ничего не может с собой поделать. Ну а последний клоун был на самом деле вдвоем, потому что у него имелся двойник, и то, что делал первый, вынужден был делать и второй, и оба пытались покончить с этим, но никак не могли, потому что были связаны круговой порукой. Главное, все было механическое и незлое, и ты наперед знал, что они не будут страдать, не состарятся и вообще ничего плохого с ними не случится. Это было ни капельки не похоже на то, что вокруг, с какого боку ни взгляни. Даже верблюд вопреки своей репутации желал тебе добра. Улыбка у него была такая широкая, что еле умещалась на морде, и он вышагивал важно, как дама-воображала. Все были счастливы в этом цирке, который ничем не походил на взаправдашний. Клоуну на проволоке была обеспечена полная безопасность, за десять дней я ни разу не видел, чтобы он упал, а если б и упал, то, я уверен, ничего бы себе не повредил. Чего там, это было и вправду совсем другое дело. Мне прямо помереть хотелось, потому что счастье нужно хватать, пока не сплыло.
Я смотрел представление и радовался, как вдруг почувствовал на своем плече руку. Я быстро обернулся, решив, что это фараон, но это оказалась милашка, совсем молоденькая — от силы лет двадцати пяти, чертовски хорошенькая, с обалденной светлой шевелюрой, и пахло от нее свежестью и чем-то приятным.
— Почему ты плачешь?
— Я не плачу.
Она коснулась моей щеки.
— А это что такое? Разве не слезы?
— Нет, понятия не имею, откуда оно взялось.
— Ладно, я вижу, что ошиблась. Что за прелесть этот цирк!
— Лучше не бывает.
— Ты живешь здесь?
— Нет, я не француз. Я, наверное, алжирец, а живем мы в Бельвиле.
— А как тебя звать?
— Момо.
Я никак не мог взять в толк, чего это она ко мне прицепилась. В свои десять лет я еще ни на что не был годен, пусть я даже и араб. Руку она все держала у меня на щеке, и я чуток отступил. Надо всегда держать ухо востро. Вам-то, может, и невдомек, но у ищеек Общественного призрения вид бывает безобидный, а потом вдруг бац! — и заполучай протокол с административным расследованием. Нет ничего хуже административного расследования. Мадам Роза прямо-таки обмирала, стоило ей только про это подумать. Я еще отступил, но не намного — ровно на столько, чтобы успеть задать деру, если она попытается меня задержать. Но она была чертовски красива и могла бы, если б захотела, обеспечить себе целое состояние с каким-нибудь серьезным типом, который бы о ней заботился. Она засмеялась.
— Не нужно бояться.
Как бы не так. «Не нужно бояться» — это припевка для идиотов. Мосье Хамиль все время повторяет, что страх — самый верный наш союзник и одному Господу известно, что бы с нами без него сталось, уж поверьте опыту старика. Мосье Хамиль от страха даже в Мекке побывал.
— Ты еще слишком мал, чтобы бродить одному по улицам.
Вот уж где я повеселился. От души повеселился. Но ничего не сказал — не мне же учить ее жизни.
— Ты самый милый мальчуган из всех, что я видела.
— Вы и сами что надо.
Она засмеялась.
— Спасибо.
Не знаю, что со мною сделалось, но меня вдруг обуяла надежда. Не то чтобы я подыскивал, где пристроиться, — я не собирался бросать мадам Розу, пока она была еще на что-то способна. Только стоило все же подумать и о будущем, которое рано или поздно, но обязательно шмякнет вас по темечку, и иногда по ночам мне снилась всякая всячина. Что-нибудь насчет каникул на море и когда меня не заставляют ничего такого чувствовать. Ладно, пускай я чуток изменял мадам Розе, но только в мыслях и когда мне уж совсем хотелось подохнуть. Я поглядел на красотку с надеждой, и сердце у меня заколотилось. Надежда — она всегда сильнее всего, даже у стариков вроде мадам Розы или мосье Хамиля. Стерва проклятая.
Но она больше ничего не сказала. Все на том и закончилось. Люди — штука ненадежная. Она поговорила со мной, сделала мне такое одолжение, мило улыбнулась, а потом вздохнула и ушла. Шлюха.
Она была в плаще и брюках. Белокурые волосы рассыпались по спине. Худенькая, и по походке видно, что ей ничего не стоит взбежать на седьмой этаж, притом не один раз в день, да еще с полными сумками.
Я потащился следом, потому что ничего лучше не придумал. Разок она остановилась, увидела меня, и оба мы засмеялись. В другой раз я спрятался в подъезде, но она не обернулась и не пошла назад. Я чуть было не потерял ее из виду. Шла она быстро и, наверное, совсем про меня забыла — должно быть, у нее хватало и своих забот. Она свернула во двор, и я увидел, как она звонит в дверь на первом этаже.
И не просто так. Дверь открылась, и появились двое малышей, которые бросились ей на шею. Ну там лет семи или восьми. Такие вот дела.
Какое-то время я без всякой цели просидел в подворотне. Вообще-то я мог бы подыскать себе занятие и поинтересней. На площади Этуаль есть магазинчик с мультиками, а когда смотришь мультики, можно наплевать на все остальное. Или можно было пойти на улицу Пигаль к девицам, которым я нравился, и разжиться монетой. Но мне все вдруг опостылело и стало безразличным. Мне вообще расхотелось быть тут. Я закрыл глаза, но от этого мало проку, и я по-прежнему оставался тут — это получается само собой, пока живешь. Я все никак не мог понять, какого черта эта шлюха вздумала делать мне авансы. Надо сказать, что я становлюсь большим занудой, когда нужно что-нибудь как следует понять, — я все время в этом копаюсь, хотя прав, конечно, мосье Хамиль, который говорит, что уже довольно давно никто ни в чем ничего не понимает и остается только удивляться. Я отправился снова поглядеть на цирк и выиграл еще часок-другой, но их все равно оставалось слишком много. Я вошел в чайный салон для дам, слопал два эклера в шоколаде, это мои любимые пирожные, потом спросил, куда здесь можно сходить по-маленькому, а выйдя оттуда, рванул прямо к двери — и привет. После этого я стырил на распродаже в магазине «Прентан» перчатки и выбросил их в мусорный ящик. От этого как-то полегчало.