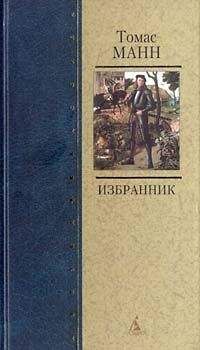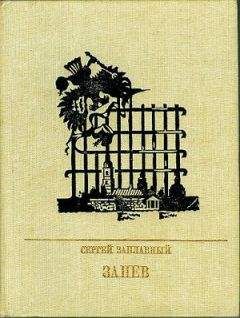Ровно за три дня до того дня, когда недужной надлежало пойти в церковь, в замок явился паж Анаклет, со щитом наизворот – в знак дурного известия. Какое это могло быть известие? Анаклета поняли бы и без слов, и без перевернутого щита. Достаточно было того, что он вернулся один. Его возлюбленный повелитель погиб.
Ах, я неутешно скорблю об этой утрате! Тут рассказ мой доставляет мне настоящее горе, которое, как и настоящее счастье, не отпущено моему монашеству в действительности. Вполне возможно, что и пишу я это только лишь для того, чтобы хоть как-то отведать человеческого страданья и счастья. Я едва удерживаюсь от слез при виде перевернутого щита Анаклета, и если бы там, среди хлябей морских, не было никакой надежды на возмещенье и на благоприятный исход, я бы не решился убить бедного Вилигиса. Ибо тот же самый дух повествования, что звонит в колокола, когда они сами звонят, убивает людей, умирающих в песне.
Юный Вилигис, такой стройный, такой красивый, – и мертв! Что правда, то правда, он никого не считал достойным себя, кроме своей купнорожденной и столь же красивой сестры, и недозволительно с ней согрешил. Мне весьма трудно простить ему также убийство Ханегифа, предоброго пса. Однако он был по-рыцарски готов к покаянью, хотя оказалось, что оно ему не по силам. Этот юноша, хотя и отважившийся на грех, никогда, как бы это сказать, не отличался душевной твердостью. Слишком уж легко охватывали его робость и трепет, он был храбр, но слаб. Разлука с милой сестрой и женою явилась для него жестоким и сокрушительным ударом, он не был внутренне закален для крестоносного подвижничества. Немало тягот вынес он с Анаклетом, встречая на пути своем разбойников и диких чудовищ, пробираясь через болота, леса, скалы и воды, но массилийской гавани ему не привелось достичь: еще раньше он схватился за грудь, повернул исказившийся лик к небесам и свалился во мхи, где его конь принялся жалостно его обнюхивать. Как быстро спешился тогда Анаклет! Он на руках отнес его в ближайший замок, хозяин которого радушно их принял и заботливо уложил в постель больного путника. У того, однако, разорвалось сердце, на второй день он испустил дух, и поелику его с головою укрыли саваном, то земле, как бы она ни старилась, не суждено было еще раз увидеть это совершенно особенное лицо близнеца, этот строгий рот с пухловатой верхней губой, эти черные, с синим отливом, глаза, эти чуткие ноздри, этот лоб, и отметину, и темные локоны, и прекрасные брови.
При мысли о том я украдкой вытираю слезу, и я хвалю чужеземного хозяина замка за то, что он распорядился с почестями препроводить на родину тело паломника-князя. Анаклет опередил траурную процессию на один день пути и явился к Сибилле со щитом наизворот, с опущенной головой. Она была уже близка к обмороку, когда ей назвали только имя пажа, только его имя. Когда же она увидела Анаклета, она лишилась чувств и упала ему на руки. Мне стыдно собственных слез, ибо я пролил их в тихой грусти, а ее обуяла боль, которой не утолить никаким слезам, и когда она снова очнулась, глаза ее были сухи, а лицо неподвижно. Она выслушала рассказ пажа о том, что случилось с его господином, и молвила: «Хорошо». Ничего хорошего в этом «хорошо» не было. Такое «хорошо» отнюдь не отдает покорностью воле божьей, скорее оно означает оцепенение, вечное отрицание божественного промысла, и словно бы говорит: «Как тебе угодно, господи, а я извлеку вывод из твоего приговора, для меня неприемлемого. Я была перед лицом твоим женщиной, пусть грешной, не спорю. Отныне же я вообще не буду женщиной, а буду навеки оцепенелой невестой боли. Я так замкнусь в себе, так ожесточусь, что ты подивишься». – Упаси меня боже от такого меча и такого оцепенения! Но я ничуть не подвержен подобным бедам. И все же я рад, что повесть моя позволяет мне отведать от них и что я в каком-то смысле их познаю.
Господин Эйзенгрейн молвил ей:
– Катафалк брата вашего прибыл и стоит в церкви моего замка. Он отдал богу тело ради души своей, и вы теперь наша повелительница. Примите же мое коленопреклонение! Одновременно, во имя вашей и моей чести, разрешите почтительно просить вас, чтобы вы, когда мы станем его хоронить, не выказали иной скорби, кроме той, с которой оплакивают погибшего брата. Всякую же иную, более горячую, скорбь вам следует тщательно скрыть.
– Благодарю вас, господин рыцарь, за науку и деликатный намек. Мне кажется, на меня не похоже, чтобы я уронила вашу, моего защитника, честь изъявлениями чрезмерной скорби. Вы весьма неопытны по части скорби, если полагаете, что самая глубокая многошумна. Теперь я намерена три часа молиться над гробом моего любимого брата. Это никак не выходит из границ скромности. Затем, в умеренном трауре, доставьте его на его место. Мое же – далее не здесь, не в вашей приморской крепости, и не отсюда собираюсь я править страной. Надеюсь и впредь иметь в вашем лице верного вассала, cons du chatel, но я вас не люблю, и хотя вы сделали меня также и своей повелительницей, вы не пользуетесь моей милостью, о чем вам сейчас и сообщаю. Вы отняли у меня моего дорогого племянника, отправили его в дикое море, а его отца, моего любезного брата, послали на смерть – все это делалось, правда, во имя чести и пользы государства, и все-таки я на вас в обиде и по горло сыта вашей суровою добротою. Я не назначу вас ни сенешалом, ни стольником и вообще не хочу видеть вас около себя, когда поселюсь в своей столице, в Брюже у глубокого залива, в высоком замке. Находись вы при мне, вы бы, ради прямого наследования, строили политичнейшие планы и непременно выдали бы меня замуж за кого-нибудь из равных мне по рожденью князей христианского мира, тогда как рождением был равен мне только один, по ком и пребуду в вечном трауре. О замужестве я не хочу и слышать, celui je tiendrai ad espous qui nos redemst de son sane precious[54]. Подаяния бедным, пост, бдение, молитва на голых камнях и все, что докучает и претит плоти, – в этом только и будет состоять жизнь повелительницы страны, дабы господь увидел, что перед лицом его больше не грешная женщина, и вообще не женщина, а княгиня-монахиня с омертвевшим сердцем. Таково мое решение.
Да, таково оно было и осталось и, клянусь Христовым распятием, неправедно было это решение. Ибо, увы, господь поразил Сибиллу, поразил всю страну пятым мечом, о чем сейчас и поведаю. Сибилла не вернулась в Бельрапейр, обитель ее отрочества и греха, замок пребывал в запустении, охраняемый лишь кастеляном да небольшим отрядом сервиентов. Княгиня держала двор в Брюже, у залива, оцепенелый двор, где не слышалось смеха и к тому же повелительница не показывалась на люди, а в одиночестве или между двух монахов лежала в молитве на голых камнях. В белом платье, сопровождаемая двумя корзиноносицами, спускалась она и одаряла бедных, которые благоговейно ее славили. Себе в удел она взяла не радость и не привольность, а только всенощные бдения, укрощение плоти да постную пищу, все это, однако, не в угоду богу, а назло ему, чтобы он вконец обомлел и испугался.
Так жила она много лет, но в расплате за грех не поплатилась своей красотой, которой бог ее не обидел, и хотя от бдения у нее часто бывали синие круги под глазами, она, сохраняя на земле черты покойного брата и созревая от года к году, становилась красивейшей женщиной, что, думается мне, отвечало ее желанию, ибо ей хотелось досадить богу тем, что она не отдает столь прекрасного тела супругу, но остается кающейся вдовою брата. А меж тем, как уже в пору ее отрочества, не один христианский князь имел на нее виды и – через посредство послов и посланий, а иногда самолично – предлагал ей руку и сердце. Но каждый встречал отказ. Сие огорчало двор, град и страну, как огорчало и бога, хотя господь опять же ничего не мог возразить против такой покаянной воздержности. В этом-то разладе с самим собою она и хотела оставить всевышнего.
На шестой год один весьма знатный князь, Роже-Филиппус, король Арелата, стал просить ее выйти замуж за своего возмужалого сына по имени тоже Роже, но уже без Филиппа. Принц этот был бесстыдник, каких я смерть не люблю. Уже в пятнадцать лет он носил козлиную бородку, черную, как его глаза, подобные пылающим уголькам, с бровями столь же мохнатыми, как его усы; он был долговяз, волосат, задирист и галантен, этакий петух, сердцеед, дуэлянт и повеса, – терпеть не могу таких молодцов. Отлично понимаю, что отец, желая ему добра, считал разумным поскорее остепенить его женитьбой. Благородная и любочестивая дочь господина Гримальда казалась как нельзя более подходящей невестой, к тому же в пользу такого выбора, помимо прочих, говорили и политические соображения, ибо мало того что королю хотелось женить своего наследника на красавице, ему прежде всего хотелось, чтобы Роже присоединил к Арелату и Верхней Бургундии Артуа и Фландрию.
Потому-то одна страна стала засыпать другую посольствами и просьбами, нежными предложениями и ценными подарками, и сам король Роже-Филиппус со своим сыном и представительной свитой бургундских рыцарей посетил брюжский двор, где принц тотчас же соблазнил трех статс-дам, но неизменно встречал холодный взор государыни. Она измеряла всю его рыцарственнейшую фигуру в длину, снизу вверх, насмешливым взглядом, и это донельзя ожесточило и навеки распалило забияку, так что Роже считал свою честь поруганной, коль скоро не овладеет Сибиллой. Да и весь двор, включая трех дам, столь быстро им побежденных, мирволил этому сватовству, ибо все хотели, чтобы Сибилла дала стране герцога и чтобы наконец-то был положен предел ее целомудрию. Она, однако, учтиво уклонялась от домогательств короля, не говорила ни «нет» ни, тем более, «да» и вытребовала себе неопределенный срок на размышление, когда бургундцы стали собираться домой. Оттуда снова пошли посольства, напоминанья и просьбы, но она по-прежнему отделывалась невразумительными посулами, походившими то на отказ, то на вежливое полусогласие и нисколько не прояснявшими дела, дабы все это, как она надеялась, наконец наскучило отцу и сыну.