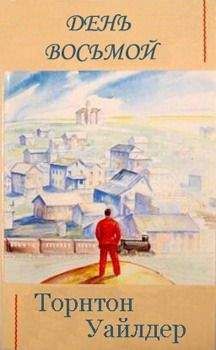То, что вдруг обрушилось на Беату, не поразило ее, даже не озадачило. Она восприняла это как катастрофу, нелепую и бессмысленную. Но она не плакала и не жаловалась. Она ничем не выдавала своих чувств, разве что не желала показываться на городских улицах. Она как будто вполне владела собой, только один сдвиг произошел в ней. Она потеряла способность мыслить во времени. Ее разум отказывался заглядывать в будущее. Он ускользал от соприкосновения с завтрашним днем, с предстоящей зимой, со следующим годом. Не хотел он обращаться и к прошлому. О муже Беата упоминала вслух очень редко и всякий раз с видимым усилием. Хрипота, затуманившая было ее звучный, красивый голос, постепенно исчезла. Появлялась она опять лишь в те дни, когда полицейские чиновники являлись в «Вязы» допрашивать хозяйку дома, — и не во время этих грубых допросов, а после.
Беату Эшли томила мука, о которой она никому не говорила ни слова, — мука бессонницы. То была бессонница одинокой постели, бессонница долгих ночей, когда будущее предстает узким коридором без света, никуда не ведущим. Ей было горько, она понимала, что это изнурит ее и состарит раньше времени, и ей было страшно, она опасалась, как бы в конце концов не сойти от этого с ума. В довершение беды она не могла даже коротать время за книгой — ведь пришлось бы тогда жечь огонь по ночам.
Томило ее еще и другое — глубокое беспокойное чувство, которое она не умела определить словесно. Ни в одном из трех известных ей языков для него не находилось названия. Беата была женщиной строгих нравственных правил. Чутьем она угадывала опасность, подстерегающую впереди. Апатия? Безразличие ко всему? Нет. Душевное оцепенение? Нет. Но одним из проявлений этого безымянного чувства была стойкая неприязнь ко всему противоположному — воле Софи к жизни, тоске Констанс по школьным подружкам, молчаливому убеждению Лили, что ее ждет блестящая будущность.
Все матери любят своих детей. Это общеизвестно. Только материнская любовь — это как погода. Она есть всегда, но замечаем мы главным образом ее перемены. Материнской любви Беаты Эшли всегда чужды были внешние изъявления. Кто-то слышал однажды, как Констанс говорила Энн Лансинг, своей закадычной подруге: «Мама больше всего любит нас, когда мы болеем — вот когда я сломала руку, например». Вероятно, утрата одного из детей потрясла бы Беату больше, чем исчезновение ее мужа, ибо горе всегда сильней там, где к нему примешиваются укоры совести. Любимицей матери в семье была Лили — и принимали это как нечто само собой разумеющееся. Но любовь Беаты к мужу и по силе, и по характеру была такова, что оставляла не много места для других привязанностей. К тому же в ее отношении к дочерям сквозила тень присущего ей инстинктивного пренебрежения к женскому полу, унаследованного, как это часто бывает, от матери. Клотильда Келлерман, geborene фон Дилен, не слишком уважала мужчин, еще меньше — женщин, но зато была очень высокого мнения о собственной особе. Беата сначала боялась матери, потом восстала и одержала победу, но так и не освободилась от невольно заимствованного у нее взгляда на женщин. Ей не нравился женский склад ума, женские разговоры, женская доля, предопределенная жизнью. (Единственное, что ее раздражало в муже, — у него все обстояло наоборот. Ему скучно было разговаривать с мужчинами, если только речь не шла об общих деловых интересах. Вот со штейгерами он легко находил общий язык.) В первые месяцы после драматического события, круто переломившего судьбу Беаты Эшли, на нее иногда находила злость и усталость от того окружения, в котором теперь приходилось существовать, от этого непрерывного женского общества, от этого духа девической непорочности. Она сурово осуждала себя за такие вспышки. Она была врагом всякой несправедливости, а тут понимала, что несправедлива сама. Дочери чувствовали ее настроение. Все три — даже Лили — угадывали, что в чем-то не соответствуют ее требованиям, а может быть, требованиям самой жизни, и это затрудняло им даже общение друг с другом.
Софи еще раньше решила про себя, что у матерей с дочерьми «всегда так»; девочек больше любят отцы. Пошел уже шестой месяц с тех пор, как Джон Эшли в последний раз переступил порог своего дома. Особенно трудно Беате было с Софи. От Софи так и веяло энергией. Ее радовала ответственность, возложенная на нее братом. Эти первые месяцы Беата, при всей ее внешней выдержке, подобно иудейскому царю Езекии, «отворотила лицо свое к стене». Она безвольно скользила навстречу чему-то завершающему. Навстречу благодетельному концу. Она была точно потерпевшая кораблекрушение, которая вместе с другими в утлой шлюпке носится по волнам. Ни голод ни жажда уже не ощущаются ею, и с глухим раздражением она наблюдает, как ее спутники в чаянии спастись выкидывают сигналы бедствия, пытаются вычерпать воду из суденышка, жадно всматриваются в даль — не замаячит ли там островок, поросший пальмами.
А Софи не сдавалась. Все ее помыслы были теперь сосредоточены на долларах — красивых, труднодоступных, могущественных долларах. Во всем, что ей приходилось читать, видеть, слышать, она старалась найти реальную почву для своих надежд. Героини романов Диккенса часто становились швеями или модистками, но ей успеха на подобном поприще ждать не приходилось — об этом красноречиво свидетельствовали ледяные взгляды жительниц Коултауна. К тому же городских щеголих обшивала мисс Дубкова, добрая знакомая семьи Эшли. Столовых в городе было две: ресторан при гостинице «Иллинойс» и пропахшая кухонным чадом обжорка у вокзала; третьей не требовалось. Белье все хозяйки стирали сами, а холостяки и заезжие коммерсанты отдавали свое прачке-китайцу. Но был один проект, все настойчивее занимавший воображение Софи. Она пестовала его, обдумывая положение с разных сторон. На первый взгляд препятствия казались непреодолимыми. Нашлись, однако, и обнадеживающие соображения — одно, другое, третье. На южной окраине городка, напротив усадьбы Лансингов, стояло необитаемое полуразвалившееся строение; когда-то это был особняк с претензией на роскошь. Теперь во дворе пышно разрослись сорняки. На колонне, еще поддерживавшей крышу веранды, криво висели две заржавелые вывески: «Продается» и «Сдаются комнаты со столом». Пережив свою славу, дом какое-то время служил пансионом, а потом пристанищем для бродяг, для безработных шахтеров, для увечных и престарелых. Софи вспомнила читанную в дни детства книгу под названием «Ковчег миссис Уиттимор». В ней повествовалось о том, как одна вдова, обремененная кучей детишек обоего пола, открыла на взморье пансион для приезжих. Девочек Эшли эта книга в свое время очень веселила. С большим юмором говорилось там об угрозе дома призрения, нависшей над героиней. В открытом ею пансионе обитали главным образом милые рассеянные старички и суматошные, но добрые старушки. Впрочем, был среди жильцов и красивый молодой студент-медик, не замедливший влюбиться в старшую из дочерей хозяйки. Однажды упомянутая молодая особа отправилась в мрачную лавку ростовщика, чтобы продать украшенный жемчугом медальон своей матушки. Софи недоумевала, почему у автора получилось так, что лишь от полной безвыходности можно было решиться на столь унизительный и отчаянный шаг. Будь в Коултауне одна-две такие лавки, это пришлось бы очень и очень кстати. В конце концов миссис Уиттимор получала от одного богача приглашение стать домоправительницей в его горном замке, и все завершалось к общему благополучию. Софи разыскала на чердаке растрепанный томик и перечитала его вновь, на этот раз без улыбки. Из этого чтения она почерпнула немало ценных для себя сведений. Выяснилось, что содержательницам пансионов часто грозят убытки из-за недобросовестных жильцов, норовящих сбежать ночью, не расплатившись по счету. Миссис Уиттимор боролась с этой угрозой, протягивая поперек лестницы нитки с привязанными к ним коровьими колокольцами. А если злостный неплательщик, испугавшись нежданно произведенного им шума, бросался спешно к парадной двери, он обнаруживал, что предусмотрительная миссис Уиттимор намылила дверные ручки. А бывало и так, что сама хозяйка желала избавиться от кого-либо из жильцов (например, от мистера Хэзелдина, имевшего обыкновение наваливать себе на тарелку половину поданного к столу мяса, или мисс Ример, всем всегда недовольной), — в таких случаях ее дети и добровольцы-союзники, следуя полученным инструкциям, принимались разглядывать самым пристальным образом-то подбородок, то носки башмаков намеченной жертвы. Подвергнутый этой процедуре, которая в тесном кругу именовалась «выкуриванием», как правило, срочно подыскивал себе менее обременительное для нервной системы местожительство. В кухне миссис Уиттимор, экономя спички, пользовалась огнивом и кремнем; под видом жареной курицы подавала тушеного кролика; мыло варила домашним способом из свиного сала и просеянной печной золы. Софи сочла счастливым совпадением тот факт, что эта книга снова попала ей в руки, но жизнь тех, кто умеет надеяться, всегда полна счастливых совпадений. Она твердо решила открыть в «Вязах» пансион, а решив, сразу же начала действовать. Прежде всего она пошла в шахтное управление к мисс Томс, приятельнице и сослуживице отца. Мисс Томс прожила жизнь только что не в нужде и особым умением надеяться похвастать не могла. Она отнеслась прохладно к планам Софи, однако пообещала дать два стула, этажерку и кое-что из посуды. Затем Софи удалось тайком переговорить с Порки. Услышав новость, Порки подумал немного и сказал: «Знаете что, Софи, прежде всего начните по вечерам зажигать свет в гостиной. На темный фасад неприятно смотреть со стороны. (В тот же вечер он принес и оставил на заднем крыльце бидон с керосином.) Моя мать плетет коврики. Я вам могу дать два коврика ее работы. И один стул. А вы сейчас же ступайте в „Иллинойс“ к мистеру Сорби и расскажите ему о том, что задумали. Иначе вы рискуете нажить в нем врага, а это не годится. И цены у вас не должны быть дешевле, чем у него. Бывает, что в „Иллинойсе“ нет свободных номеров, и людям приходится ночь просиживать в холле. Может, он в таких случаях станет посылать их к вам. У моего дяди вроде бы есть кровать, которая ему не нужна».