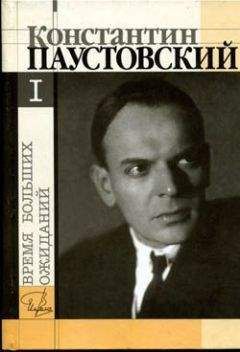В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы-»лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.
Среди денег, не имеющих хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом биржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.
Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.
После этого деньги отпечатывались и на бумаге и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.
После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.
Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.
Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.
Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.
Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.
Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникала резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.
Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога.
Мясо морских ракушек – мидий – мы варили с солью. В нем чувствовался сильный привкус ихтиола.
Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.
Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.
Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахарина. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.
Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.
Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом.
Конечно – что говорить – мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.
С точки зрения морали, воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения, газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее – намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания расстриги Просвирняка.
Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.
Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл – Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.
Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник.
На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие аппиевы дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею, стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником.
Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама и Эллады.
Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подымется летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.
Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам даже удалось выломать раму от дверей.
Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалять «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело, было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.
Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира.
После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, – его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.
Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали зельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.
В темните мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.
Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.
В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.
Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.
Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.
Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал на продавленный матрац на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одессу, Антанту и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.
У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей опустились и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам.