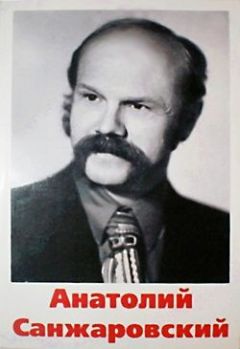с пустяка. С одной каплёшки. Капля для человека, что слону дробина. По одной три раза в день. Через неделю уже по две. На пяти каплях почуяла… как-то угнетает…
— И перекинулись давать больным?
— Нет. После себя проверила ещё на кошке. Сразу боялась ей давать. А ну примрёт?… Ну, моя игрушка, сама поиграла первая… Не отравилась. Как-то кошка теперь примет мои капли? Давала с молоком, с супом. На пятой учуяла — как человек! — запротестовала, не взялась есть. У меня не она, а он… Не взялся есть мой бедный Мурчик…
Кребса так и осыпало морозом.
— Совершенно белый кот, лишь одно ухо, правое, забрызгано чёрными крапинками? — отшатнувшись, выкрикнул он, поражённый.
— Совершенно белый кот, лишь одно ухо, правое, забрызгано чёрными крапинками, — слово в слово подтвердила Таисия Викторовна. — Вы-то откуда знаете моего кота?
— Это мне-то не знать своего кота? — как-то неестественно, дураковато хохотнул Кребс и навалился объяснять: — Люция Ивановна была помешана на кошках. Дюжины с три держала. Не дети — кошки задавили… Не терпел я их, а потом притёрся, привык. Грома-адное кошачье наследство отписала покойная. Всему городу раздариваю её кошек, а они всё назад сбегаются. Что они никому не нужны, что я… — горестно выронил он.
Ему вспомнилось, как дворничиха, ширкая сегодня утром под окнами метлой, пожалела его какой-то старухе, сказав: «Один, как перст!» Он уже не спал, слышал весь их разговор, и слова про то, что он в свете один, как перст, сломали его, он заплакал в холодной постели.
«Один, как перст», — сокрушенно повторил он в мыслях. Ему стало жалко всё вокруг и дальше он говорил уже так — всё жалея:
— Я их, кошек, вроде и жалеть начал… Мурчик мне нравился, да не стерпел, подарил вашей Миле. Дочка у вас — совершенная очаровашка. Только очень уж худа, как игла.
— А вы хотите, чтоб была, как мешок с зерном?
— Конечно, и мешок ни к чему… Когда я её вижу, меня обжигает такое чувство, будто лично я ей отец.
Таисию Викторовну бросило в огонь. Колко отстегнула:
— Спешу вас авторитетно успокоить, чувства вас обманывают.
— Да, да, — опечаленно согласился он. — Жизнь ушла, и под старость лет ни одного не пустил я своего росточка… Кем прорасту в завтра? Не кем, а чем… Кладбищенской травой…
— Что вы себя опеваете? — рассердилась Таисия Викторовна. — Ну что зубы-то пилить? [32]
— Правдушка ваша, — твердея, ответил он, набираясь духом, через силу улыбаясь. — До травы мы ещё… Вернёмся к Мурчику. Как судьба удачно-то завернула! Ну Мурчик! Ну Мурчик! Он снова нас свёл… В опытах вы пили свою долю, а Мурчик — мою. Теперь скажите, милочек, что я на равных с вами не участвовал в открытии борца!?
Кребс игриво выбросил вперёд одну ногу, изловчился, низко наклонясь, хлопнул под нею в ладошки и, не устояв, пал на попочку.
Всегда безукоризненно чисто одетый, всегда педантично важный Кребс, не без оснований носивший прозвище стерильный Кребс, поверг Таисию Викторовну в недоумение. Изгвазданный с ног до головы, обмакнутый в грязь, он стоял, понуро раскрылив руки. С пальцев катилась чёрная жижица.
— До калитки, Тайна Викторовна, я вас проводил, — потерянно пробормотал он, — но рукú вам пожать не смогу… Я вас выпачкаю… О натюрель…
Закавырцевский борец неслыханно набирал силу, власть.
Скоро весь Борск только и гудел о нём.
Кребс ходил гоголем, ни с кем не обмолвился и словом без того, чтоб не подхвалить борец. Хотя хорошая вещь крикламы не требует, но кому реклама мешала?
Как-то Таисия Викторовна погоревала вслух при Кребсе, хорошо б всё-таки испытывать борец не только в институтской клинике, но и у себя в диспансере, где работала, под своим непосредственным постоянным наблюдением.
Кребс меланхолично пообещал:
— Бу сделано, соболиночка.
И пошёл в облздрав.
Пришлось Грицианову выжимать десяток коек под борец.
Укрепил Кребс прежде всего себя.
В шутку он подпускал, что его историческое место во все времена впереди и с шашкой на белом коне. Всякая шутка правдой жива. Он был ведущий консультант у раковых гинекологичек у себя в клинике, стал им и в диспансере. Подмяв два таких трона, позволит ли он теперь плюнуть себе в лицо, допустит ли, чтоб борец дал в диспансере результаты, не устраивающие его, Кребса?
Была пора, диспансер наотрез отмахнулся от борца, а тут, пристыженный успехами в кребсовской клинике и поталкиваемый облздравом, снова покаянно шатнулся к борцу.
Борск очумело разинул рот.
А придя в себя, сказал Кребсу:
— Глубокоуважаемый Борислав Львович! Не хватит ли нам коридорно-уличных сладких песнопений? Однажды соберите всех нас в кучу да покажите, что за мóлодец ваш борец. Тогда и мы поймём, чего вы с ним носитесь как Маланья с ящиком.
— И соберу! И покажу! — тронно ответствовал Борислав Львович.
Однако время шло.
Борцовские смотрины всё отодвигались, всё отодвигались.
Борислав Львович не находил места. Чьим представлять этот проклятый борец? Закавырцевским? Ш-шалите! Зачем же генералу подсаживать солдатика в маршалы? Зачем обставлять самого себя? Это накладно. Это нерентабельно.
Может, преподнести его как наш борец? А Тайга-Таёжка не вскинет норку, не покажет коготки? Не захнычет ли на весь город: «Дедюка [33] отнял пирожок!»?
А что?… Тайга-Таёжка — мой остров сокровищ! А что, если мы этой Тайге, извините, застегнём роток женитьбой? Самой вульгарной, самой банальной?… О женщины! Вами движется жизнь. Вы — вечный двигатель жизни! За Люцийкой Ивановной я умкнул кафедру, клинику, чин профессора. А за Тайгой с её борцом разве не вырву я себе академика? Выр-ву. Обязан. Поначалу будет «Борец Кребсов», потом вывеску я заменю на «Борец Кребса». Так звучней, конкретней, солидней, надёжней. Щекотнётся наша Тайга! Нечего нарымской свистушке ошиваться в науке, историческое место жаны на кухне!
Такой план пленения борца разогрел Кребса.
Под момент он боковыми словами, обиняками намекнул Таисии Викторовне на разженёху, на развод. Мол, сотвори ручкой своему просветителю-рентгенологу и пускай не отсвечивает, отбывай своим душевным теплом отогревать наши настывшие профессорские апартаменты. Ну что, невестушка, не прочь покататься под кустиком? [34]
Она приняла этот выверт как неуклюжую шутку. Однако выкатила ему на сто лет — крапивка и молода, а уже кусается! — так что у него сразу рассохся интерес к женитьбе.
В голову полезла дичь.
То ему зуделось, чтоб Таисия Викторовна однажды взяла да и сделала предоброе дело — померла. Таисии Викторовны нет, а борец есть! Недурственно.
Как-то легко всё выбежало на пословицу: что бабе хотелось, то и приснилось.
Три ночи подряд он сладко видел,