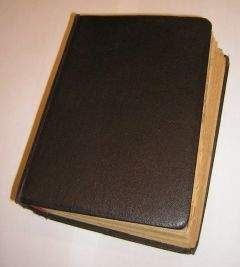— Вы очень нерадивы, вольноопределяющийся, — сказал капитан. — В учебной команде вольноопределяющихся вы были сущим наказанием; вместо того чтобы стараться отличиться и получить чин соответственно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы позорите полк, вольноопределяющийся! Но вы можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом. Посвятите всего себя батальону. Испытаем вас! Вы интеллигентный молодой человек, безусловно владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вел бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, все выдающиеся события, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль. Тем самым будет подготавливаться необходимый материал по истории армии. Вы меня понимаете?
— Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. Батальон имеет свою историю, полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка. На основании истории полков создается история бригады, на основании истории бригад составляется история дивизий и так далее… Я вложу, господин капитан, в это дело все свое умение. — Вольноопределяющийся Марек приложил руку к сердцу. — Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боев, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были полны побед.
— Вы, вольноопределяющийся, прикомандировываетесь к штабу батальона. Вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде, описывать, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, вольноопределяющийся, но надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью и, получив от меня определенные директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас историографом батальона. Явитесь к старшему писарю одиннадцатой роты Ванеку и скажите ему, чтобы он поместил вас в своем вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванеку, что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом по батальону.
*
Повар-оккультист спал, а Балоун не переставая дрожал, ибо он уже открыл сардинки поручика. Старший писарь Ванек пошел к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходоунский где-то на вокзале тайно перехватил бутылку можжевеловки, выпил ее и, растрогавшись, запел:
Пока я в наслажденьях плавал,
Меня манил земной простор,
Ты мне вселяла в сердце веру,
И мой горел любовью взор.
Когда ж узнал я, горемыка,
Что жизнь коварна, как шакал,
Прошла любовь, угасла вера,
И я впервые возрыдал.
Потом поднялся, подошел к столу старшего писаря Ванека и написал крупными буквами на листе бумаги:
«Настоящим покорнейше прошу назначить меня батальонным горнистом.
Телеграфист Ходоунский».
Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ванеком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольноопределяющийся Марек, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком.
— Могу вам сказать одно: Марек, я бы выразился, человек подозрительный, politisch verdächtig. Бог мой! Ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят! Но это одно только предположение. Ведь вы меня понимаете? Итак, я предупреждаю вас лишь о том, что, если он начнет что-нибудь такое, его… понимаете?.. нужно сразу осадить, чтобы у меня не было каких-либо неприятностей. Скажите ему просто-напросто, чтобы перестал болтать, и вся недолга! Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Поговорите с ним по-дружески. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю слышать, потому что… Понимаете? Такие вещи бросают тень на весь батальон.
Вернувшись в вагон, Ванек отвел в сторону вольноопределяющегося Марека и сказал ему:
— Послушайте-ка, вы под подозрением? Впрочем, это не важно! Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходоунского.
Только он это сказал, Ходоунский подошел к старшему писарю, бросился ему в объятия и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания, по-видимому, должны были обозначать пение:
Всеми брошен, одинокий,
Полон грусти безнадежной,
Горьких слез я лил потоки
На груди подруги нежной.
И любовью неземной
Светят мне глаза голубки.
И коралловые губки
Шепчут: «Я навек с тобой».
— Мы навек с тобой, — орал Ходоунский. — Все, что я услышу по телефону, тут же все вам расскажу. Насрать мне на присягу!
Балоун в углу испуганно крестился и молился вслух:
— Матерь божия, не отвергай моей мольбы! Но милостиво внемли мне! Утешь меня, милостивая! Помоги мне, несчастному! Взываю к тебе с верой живой, надеждой крепкой и любовью горячей! Взываю к тебе в юдоли печали моей. Царица небесная! Заступись за меня, дабы милостию божией под покровом твоим до конца живота моего пребывал!
Благословенная дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольноопределяющийся вытащил из своего видавшего виды походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке.
Балоун отважно открыл чемоданчик поручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки.
Однако когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Балоун поддался искушению, открыл чемоданчик и затем коробочку и жадно проглотил сардинки.
И тут благословенная и сладчайшая дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки, к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал:
— Балоун, живо неси сардинки своему обер-лейтенанту!
— Теперь посыплются оплеухи, — сказал писарь Ванек.
— С пустыми руками уж лучше не ходи, — посоветовал Швейк, — возьми, по крайней мере, пять пустых жестянок.
— В чем вы провинились, отчего это бог вас так наказывает? — сочувственно спросил вольноопределяющийся. — В прошлом вы, несомненно, содеяли большой грех. Не совершили ли вы святотатства? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? Может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино? А может, вы еще мальчишкой лазили за грушами в его сад?
Балоун сокрушенно замахал руками. Лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал: «Когда же настанет конец моим страданиям?»
— Понимаю, — догадался вольноопределяющийся, словно услышав вопль несчастного Балоуна. — Вы, дружище, потеряли связь с господом богом. Вы не можете умолить бога, чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет.
Швейк добавил:
— Балоун до сих пор не может решиться препоручить свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благости «материнского сердца всевышнего бога», как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало, перепьется и на улице спьяну налетит на солдата.
Балоун завопил, что господь бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок.
— Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь, — сетовал он. — Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в Клокоты.
— Знаю, — кивнул Швейк, — это возле Табора. У них там богатая дева Мария с фальшивыми бриллиантами… Как-то хотел ее обокрасть церковный сторож откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в Клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста раз «Отче наш» прочесть — такую епитимью наложил на него пан патер, чтобы он не удрал, — как церковные сторожа отвели его в жандармский участок.
Повар-оккультист начал спорить с телефонистом Ходоунским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот патер из Клокот был еще ехидной или каким другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, — судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения, по каноническому праву, отпущение грехов дается даже в случае покушения на монастырское имущество.