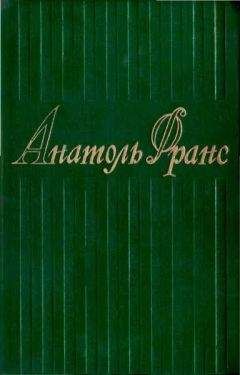Почти повсюду выборы проходили в атмосфере, созданной делом Дрейфуса, среди невиданного смятения, угроз и нападок, и если кровь не была пролита, то исключительно потому, что в характере у французов много умеренности и вывести их из себя не так-то легко. Республиканцы с трудом вышли победителями из этой унизительной борьбы, сопровождаемые градом оскорблений и клеветнических выдумок; при этом они потеряли некоторых из своих руководителей и уступили кое-где место обнаглевшему противнику.
Опасность вырисовывалась все яснее. Республиканцы, заседавшие в парламенте, поняли это, но они еще не видели, не хотели видеть непосредственную причину своей слабости, своего падения. Они еще не чувствовали всей суровой правды слов, сказанных одним из их собратьев Морисом Лебоном; отказываясь выдвинуть свою кандидатуру, так как условием этого выдвижения было молчание о деле Дрейфуса, он заявил:
— Такая крупная партия, как республиканская, не может оставлять безнаказанным нарушение высших принципов законности и справедливости, не потеряв при этом права на существование.
Несмотря на усилия таких людей, как Ранк, Жорес, Клемансо, Трарьё, Прессансе, «Черной партии» удалось поддержать согласие республиканцев и националистов по делу Дрейфуса. Для нее это было главным, ибо, пока существует согласие, республиканцы, находящиеся у власти, не преминут лить воду на мельницу своих врагов и будут помимо воли сообщниками монахов.
Вот почему, когда пал глава правительства[648], с непреодолимым упорством направлявший республиканцев к их политическому и моральному краху, причем они не смели ни свергнуть его, ни поддержать, и бразды правления были переданы Анри Бриссону, старому, глубоко честному республиканцу, непримиримому врагу монахов, последнему все же пришлось разделить власть с националистами и поручить их ставленнику Кавеньяку руководство военным министерством, где орудовали члены конгрегаций.
Монахи были полны отваги. У них имелось дело Дрейфуса, благословенное дело, созданное, думали они, самим богом, чтобы вернуть Францию на путь католицизма. Доминиканец Дидон, директор школы Альберта Великого, произнес при распределении наград, происходивших под председательством генералиссимуса Жамона, страстную схоластическую речь. С пылом св. Петра великомученика и с мудростью св. Фомы Аквинского он призывал в ней к насилию против тех, кто посмел не только думать самостоятельно, но и высказывать свои взгляды, а это согласно католической церкви поистине достойно осуждения в делах веры. Однако, что не является делом веры с тех пор, как папа объявлен непогрешимым[649] и в области религии и в области нравов? Отец Дидон предупреждал правительство, что, терпя беспорядки, оно потворствует им, возвещал кровавые репрессии против тех, кто посмеет словом или делом нападать на армию, и рассматривал как нападки на нее то, что было в действительности лишь смелым разоблачением судебной ошибки. Наконец, он возвещал, что гражданская власть должна находиться в подчинении у духовной власти, и ставил мирских владык в непосредственную зависимость от духовных руководителей.
— Следует ли давать волю дурным? — спрашивал этот красноречивый монах. — Нет, бесспорно! Когда исчерпаны все доводы убеждения, когда любовь бессильна, надо вооружиться мечом и, потрясая им, устрашать, разить, карать: справедливость должна восторжествовать даже путем принуждения. Прибегнуть к силе порой дозволено и законно, более того, необходимо, и тогда сила перестает быть насилием и превращается в благодетельную и святую стойкость.
Высшее искусство правления состоит в том, чтобы знать истинный час, когда терпимость становится попустительством. Горе тем, кто скрывает свою преступную слабость под покровом мнимой законности, горе тем, чей меч притупился, чья доброта перешла в благодушие! Страна, объятая мучительной тревогой, заклеймит и отбросит их за то, что они не захотели хотя бы ценой крови защитить и спасти ее.
…Вот почему, милостивые государи, Франция бережет и лелеет свою армию как святая святых; она чтит армию, и гнев ее будет ужасен, репрессии кровавы, если святотатцы посмеют посягнуть на это бесценное сокровище. Вопреки интеллектуализму, похваляющемуся своим пренебрежением к силе, вопреки обезумевшей свободе, которая нетерпеливо восстает против силы, вопреки притязаниям «гражданственности» (да простится мне этот варваризм), желающей подчинить себе военную власть, вопреки космополитизму, не признающему законов человечества, которое само провидение и природа разделили на самостоятельные нации, вопреки всем софизмам, всем заблуждениям дурно направленных умов, вопреки жертвам, которых требует национальная армия, Франция хочет иметь свою армию, хочет видеть ее сильной, непобедимой и возлагает на нее самые большие, самые возвышенные надежды…
В этой исступленной речи заключалось целое учение: доминиканец осуждал политические свободы и свободу мысли, повторяя положения Силлабуса в форме призыва к гражданской войне. Генералиссимус французской армии молча слушал, как монах подстрекает солдат к мятежам и избиениям. Итак, на этот раз белая ряса Лакордера вновь олицетворяла собой свободу, свободу теократии под защитой меча Франции. Анри Бриссон недолго продержался у власти. И все же благодаря проявленной энергии он продержался достаточно, чтобы выполнить свой долг и добиться пересмотра процесса 1894 года[650], а это стало необходимым после признаний и самоубийства полковника Анри.
Не хватает слов, чтобы описать министерство Дюпюи, которое пришло на смену министерству Бриссона. Это был разгром, хаос, крушение. Республика стремительно катилась вниз, увлекаемая делом Дрейфуса, которое с воем раздували националисты, подталкиваемые римско-католическими бандами. В городах были пущены в ход резиновые дубинки и баядосы, а трость, угрожающе поднятая аристократом, продавила шляпу на президенте Лубе.
Республиканцам пришлось задуматься, и после глубоких размышлений они поняли, что болезнь, неожиданно принявшая столь острую форму, была глухой и серьезной болезнью, болезнью застарелой, которая коренилась в законе от 15 марта 1850 года[651]. Правда, он был частично аннулирован, но его последствия давали себя чувствовать все сильнее и сильнее. В общем, закон Фаллу обладал одним свойством, редко присущим законам, а именно, действенностью. Чтобы провести его, со стороны тогдашних ультрамонтанов потребовалась редкая предусмотрительность и необычайная ловкость, а также понимание взаимосвязи событий и чувство времени — качества, которые встречаются теперь лишь в церковной политике. И, конечно, ультрамонтаны ничего не добились бы без помощи своих противников, в которой им не было отказано. Они получили — и не в последний раз — помощь либералов. Ведь либералы, как и все прочие смертные, подвержены страху. Революция, опрокинувшая Июльскую монархию, еще не отгремела, и в клубах ораторы говорили жуткие вещи о коммунизме и разделе имущества. Просвещенные буржуа, которые некогда спокойно жили под защитой правительства, разоблачая интриги иезуитов, перешли теперь на сторону ультрамонтанов из страха перед красными. Итак, закон Фаллу был детищем усердия и страха.
В подготовительной комиссии аббат Дюпанлу говорил:
— Дело конгрегации есть дело справедливости и добродетели.
На что старый вольтерьянец Тьер отвечал, обращаясь к своему собрату Кузену:
— Послушайте, Кузен, а ведь аббат прав: мы сражались против справедливости и добродетели и теперь обязаны исправить это.
И философ Кузен восклицал:
— Ну так бросимся же поскорее к ногам епископов!
Закон Фаллу отдал во власть церкви все три ступени народного образования и водрузил на голову Франции тиару обскурантизма. Не стоит вспоминать здесь ни о жестоких притеснениях, которым подверглось высшее образование, ни о том, как епископы в бараний рог сгибали незлобивых профессоров Высшей Нормальной школы. Не стоит вспоминать также, что за одно слово, сказанное против католической ортодоксии, Ренан был лишен кафедры[652] во Французском коллеже. Достаточно рассказать, во что превратил закон Фаллу низшее и среднее образование. В десятках сотен коммун народные школы были отданы конгрегациям. «Грамота о послушании» оказалась важнее диплома на право преподавания, и часть народа была воспитана в невежестве, в духе ложных доктрин. Иезуиты и марианы, у которых учились дети дворян, привлекли в свои заведения также сыновей богатой и тщеславной буржуазии, которая, стремясь походить на знать, не нашла ничего лучше, как подражать ее предрассудкам. Монахи особенно тщательно готовили молодых людей к поступлению в морские и военные школы. Университет — прекрасный отец, но как только дети вышли из-под его опеки, они его больше не интересуют. Напротив, монахи никогда не покидают своих учеников. Об этом много раз говорилось до меня и, в частности, в прекрасной книге Жозефа Рейнака[653]. Они следят за своими питомцами в течение всей жизни, женят их, содействуют их административной и военной карьере, продвигают в крупной торговле и промышленности, оказывают помощь в адвокатуре, в медицине, на научном поприще. Таким образом, они обеспечивают себе связи во всех слоях общества, во всех государственных органах, создавая разветвленную сеть агентов. Один посетитель, войдя в келью отца Дю Лака, увидел на его письменном столе только одну книгу — «Военный ежегодник».