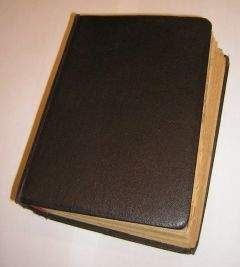Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад, крича: Wachkommandant! Wachkommandant!453
Появился взводный Елинек, разводящий у часового-поляка, и спросил у него пароль, потом то же сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк из Коломыи на все вопросы кричал «Kaffee! Kaffee!», да так громко, что слышно было по всему вокзалу.
Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками, началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестантский вагон.
Подпоручик Дуб имел определенное подозрение на Швейка. Швейк первым вылез с котелком — он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал:
— Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!
После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовце — Требишов, где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон Четырнадцатого венгерского гонведского полка, который проехал эту станцию еще ночью. Не оставалось никакого сомнения, что ветераны были пьяны. Своим ревом: «Isten áld meg а királyt!»454 — они разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты, из наиболее сознательных, высунулись из вагонов и ответили им:
— Поцелуйте нас в задницу! Éljén!455
Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах вокзала задрожали:
— Éljén! Éljén a Tizenegyedik regiment!456
Через пять минут поезд шел по направлению к Гуменне. Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тисы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы; там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними — наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись.
К полудню поезд подошел к станции Гуменне. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии.
На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угрорусов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста.
Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку, другой конец которой держал в руке, и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Время от времени жандарм дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души, до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю.
Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвести арестованных на вокзал, в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают.
Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и, нужно отдать справедливость, большинство офицеров осудило такую жестокость.
— Если они действительно предатели, — считал прапорщик Краус, — то их следует повесить, но не истязать.
Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил все тем, что венгерские жандармы со станции Гуменне мстят за смерть эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемого Шимачеком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами.
Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гуменне, жандармы тоже получали «Четырехлистник» Шимачека с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби.
Он вышел из вагона и пошел искать Швейка.
— Послушайте, Швейк, — обратился он к нему, — вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе.
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то удалился от родного дома. Шел он из Страшниц на Винограды457 и остановился по дороге в трактире «У остановки». Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Корунную улицу, как стал летать по всей Корунной из трактира в трактир до самого костела святой Людмилы, — вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире «У ремиза» в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в три недели совершит пешком кругосветное путешествие.
Он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у «Черного пивовара» на Карловой площади. Оттуда он пошел на Малую Страну в пивную к «Святому Томашу», а потом, сделав остановку «У Монтагов», пошел выше, остановился «У брабантского короля» и отправился в «Прекрасный вид», а оттуда — в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала себя знать. Добрался он до Лоретанской площади, и тут на него напала такая тоска по родине, что он грохнулся наземь, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду! Начхать мне (простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант) на это кругосветное путешествие!» Все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяк раздобуду, только боюсь, как бы поезд не ушел.
Поручик Лукаш уверил его, что раньше чем через два часа они не тронутся и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принес ему за пятнадцать крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал Швейку пятнадцать крон и приказал действовать немедленно; но никому не говорить, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещенное.
— Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, все будет в наилучшем виде: я очень люблю все запрещенное, нет-нет да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая… Как-то раз в Карлинских казармах нам запретили…
— Kehrt euch — marschieren — marsch!458 — скомандовал поручик Лукаш.
Швейк пошел за вокзал, повторяя по дороге все задания своей экспедиции: коньяк должен быть хорошим, поэтому сначала его следует попробовать. Коньяк — дело запрещенное, поэтому надо быть осторожным.
Едва он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба.
— Ты чего шляешься? — налетел тот на Швейка. — Ты меня не знаешь?
— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк, отдавая честь, — я бы не хотел узнать вас с плохой стороны.
Подпоручик Дуб пришел в ужас от такого ответа, но Швейк стоял спокойно, все время держа руку у козырька, и продолжал:
— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я хочу знать вас только с хорошей стороны, чтобы вы меня не довели до слез, как вы недавно изволили выразиться.
От такой дерзости у подпоручика Дуба голова пошла кругом, и он едва нашел в себе силы крикнуть:
— Пшел отсюда, негодяй! Мы с тобой еще поговорим!
Швейк ушел с перрона, а подпоручик Дуб, опомнившись, последовал за ним. За вокзалом, тут же у самой дороги, стоял ряд больших корзин, опрокинутых вверх дном, на которых лежали плоские плетушки с разными сладостями, выглядевшими совсем невинно, словно все это добро было предназначено для школьной молодежи, готовящейся к загородной прогулке. Там были тянучки, вафельные трубочки, куча кислой пастилы, кое-где — ломтики черного хлеба с колбасой явно лошадиного происхождения. Под большими корзинами хранились различные спиртные напитки: бутылки коньяку, водки, рома, можжевеловки и всяких других ликеров и настоек.
Тут же, за придорожной канавой, стояла палатка, где, собственно, и производилась вся торговля запрещенным товаром.
Солдаты сначала договаривались у корзин, пейсатый еврей вытаскивал из-под столь невинно выглядевшей корзины водку и относил ее под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в брюки или за пазуху.