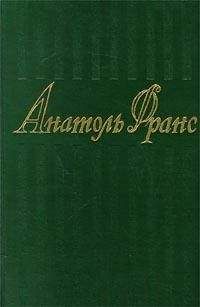Первый город был укрепленной оградой; вот в этой-то грубой кровавой колыбели были взлелеяны великие законы, прекрасные ремесла, знания и мудрость. Вот почему истинный господь пожелал называться богом воинств.
Все это я говорю тебе, Турнеброш, сын мой, не для того, чтобы ты записался в солдаты у этого сержанта-вербовщика и возымел желание стать героем и получать в среднем по шестьдесят палочных ударов в день.
В том-то и дело, что в нашем современном обществе война обратилась в наследственный недуг, в извращенное влечение к жизни дикарей, в преступное ребячество. Монархи наших дней, и в особенности покойный король, оставят по себе навеки позорную славу потому, что они превратили войну в игру и забаву своих дворов. Мне грустно подумать, что нам не дожить до конца этой заранее условленной бойни.
— Что же касается будущего, непроницаемого будущего, позволь мне, сын мой, представить его себе более сообразным присущему мне духу кротости и справедливости. Будущее — удобный приют для наших мечтаний! Там, как в стране Утопии[228], мудрец с радостью предается своим построениям. Я хочу верить, что настанет время, когда народы обретут мирные добродетели. Возрастающая мощь орудий войны сама по себе позволяет мне прозреть отдаленное предзнаменование всеобщего мира. Армии увеличиваются непрестанно и в силе и в числе. Наступит день, когда они поглотят целые народы. И тогда это чудовище погибнет от обжорства. Оно слишком раздуется и лопнет.
В этот день мы узнали, что епископа Сеэзского избрали членом Французской академии[229]. Лет двадцать тому назад он выступил со славословием святому Маклу, и оное было признано достойным сочинением. Я охотно верю, что в нем были превосходные места, ибо г-н аббат Куаньяр, мой добрый учитель, немало потрудился над ним до того дня, как покинул епископство в обществе горничной г-жи ла Байлив. Г-н епископ Сеэзский — отпрыск старинного нормандского рода. Его благочестие, его погреба и его конюшни пользовались заслуженной славой во всем королевстве, а родной его племянник, тоже епископ, ведал списками церковных бенефиций. Избрание его никого не удивило. Оно было одобрено всеми, за исключением господ из кофейни Прокоп, которые никогда ничем не бывают довольны. Это — фрондеры.
Мой добрый учитель мягко побранил их за строптивый дух.
— На что сетует господин Дюкло?[230] — сказал он. — Он со вчерашнего дня стал ровней епископу Сеэзскому, у которого лучший клир и лучшая псарня во всем королевстве. Ибо, согласно уставу, академики равны между собой[231]. Правда, это дерзкое равенство сатурналий[232], которое перестает существовать, как только заседание окончено и господин епископ садится в свою карету, предоставляя господину Дюкло пачкать шерстяные чулки в уличных лужах. Но если господин Дюкло не желает равняться таким образом с господином епископом Сеэзским, чего же он тогда якшается с этой чиновничьей знатью? Почему он не сидит в бочке, как Диоген, или в будке писца на кладбище святого Иннокентия, как я? Ведь только в бочке или в будке писца глядишь сверху вниз на суетное величие мира сего и становишься истинным монархом и полновластным владыкой. Блажен, кто не возлагает надежд на Академию! Блажен, кто живет, чуждый страха и желаний, и сознает тщету всего сущего. Блажен, кто постиг, что одинаково суетно быть академиком или не быть оным. Он ведет беспечально свою безвестную и глухую жизнь. Прекрасная свобода сопутствует ему всюду. Он справляет во мраке тихие празднества мудрости, и все музы улыбаются ему, как своему избраннику.
Так говорил мой добрый учитель, и я восхищался чистым вдохновением, звучавшим в его голосе и сверкавшим в его очах. Но беспокойство юности одолевало меня. Мне хотелось стать на чью-нибудь сторону, ввязаться в спор, объявить себя сторонником или противником Академии.
— Господин аббат, — спросил я, — разве это не долг Академии — привлекать к себе лучшие умы королевства, вместо того чтобы отдавать предпочтение дядюшке епископа, ведающего списком бенефициев?
— Сын мой, — кротко отвечал мне мой добрый учитель, — если епископ Сеэзский суров в своих пастырских наставлениях, а в жизни блестящ и любезен, если он является образцом для прелатов, и притом же произнес славословие святому Маклу, а вступительная часть оного, где говорится об излечении королем Франции золотушных больных, признана высоко достойной, — неужели вы хотели бы, чтобы сие сообщество отвергло его только потому, что у него есть племянник, столь же влиятельный, сколь и обходительный? Поистине это было бы варварской добродетелью — покарать столь бесчеловечно епископа Сеэзского за величие его рода. Академия пожелала пренебречь этим обстоятельством. Это, сын мой, само по себе благородно.
Я осмелился возразить ему по своей юной запальчивости.
— Господин аббат, — сказал я, — не прогневайтесь, но я не могу согласиться с вашими доводами. Все знают, что епископ Сеэзский отличается необыкновенной легкостью характера, и если что и поражает в нем, так это его уменье ладить с различными партиями. Все помнят, как он мягко изворачивался между иезуитами и янсенистами, расцвечивая свою бледную осмотрительность розами христианского милосердия. Он полагает, что сделал достаточно, если никого не задел, а весь свой долг разумеет в том, чтобы умножать свое состояние. Так что вовсе не возвышенностью духа завоевал он голоса знаменитых мужей, коим покровительствует король[233], и не своим блестящим умом. Ибо, если не считать этого славословия святому Маклу, которое он (как это всем известно) только взял на себя труд произнести, сей кроткий прелат довольствовался для своих выступлений лишь жалкими проповедями своих викариев. Он привлекал к себе лишь учтивостью разговора да своей обходительностью. Но разве этих качеств достаточно для бессмертия?
— Турнеброш, — ласково отвечал мне г-н аббат, — ты рассуждаешь с тем простодушием, коим наделила тебя почтенная матушка, когда произвела на свет, и я предвижу, что ты надолго сохранишь сию младенческую невинность, с чем я могу тебя поздравить. Однако не годится, чтобы твоя невинность делала тебя несправедливым. Достаточно, если она оставит тебя в невежестве. Для бессмертия, кое только что присуждено епископу Сеэзскому, не требуется быть ни Боссюэ, ни Бельзансом[234]. Оно не высечено в сердцах потрясенных народов, но вписано в толстенную книгу, и ты должен твердо знать, что эти бумажные лавры не подходят лишь к доблестным головам.
Если среди этих Сорока встречаются люди, у которых больше учтивости, чем дарований, что же ты тут видишь дурного? Посредственность торжествует в Академии. А где она не торжествует? Разве она менее могущественна, скажем, в парламентах или в Королевском совете, где она, конечно, гораздо менее уместна? Да и нужно ли быть человеком исключительным, чтобы трудиться над словарем, который претендует создавать правила речи, по способен только следовать им?
Академисты, или академики, были заведены, как известно, для того, чтобы закрепить правильное словоупотребление в речи и очистить язык от всех загрязняющих его устарелых и простонародных выражений, дабы не появился, чего доброго, еще какой-нибудь новый Рабле или новый Монтень, от которых так и несет простонародьем[235], деревенщиной либо школярством. С этой целью собрали людей благородных, умеющих изъясняться как должно и писателей, коим полезно было научиться сему. Сначала были опасения, как бы эта компания не переделала насильственно весь французский язык. Но вскоре убедились, что опасаться нечего и что академики следуют обиходным правилам речи и отнюдь не намерены вводить новые. Невзирая на их запреты, все продолжали говорить, как говорили раньше: «Я закрываю дверь»[236].
Ученая компания смирилась, и вскорости труды eгo свелись к тому, чтобы заносить в толстый словарь различные видоизменения речи. Сие есть единственная забота Бессмертных[237]. Покончив с делами, они на досуге не прочь побеседовать между собой. Для этого им требуется, чтобы в их среде были приятные, покладистые, обходительные люди, любезные собратья, согласные друг с другом и хорошо знающие свет. А люди даровитые не всегда бывают таковыми. Гений частенько оказывается необщительным. Натура исключительная редко отличается изворотливостью. Академия сумела обойтись без Декарта и Паскаля. А кто станет утверждать, что она могла бы так же легко обойтись без господина Годо, или господина Конрара[238], или любого другого с таким же гибким, податливым и осторожным умом?