А вырваться и бежать от нее в самый последний и решительный миг удалось ему потому, что он, Иосиф, увидел лицо отца — об этом сообщают все подробные изложения нашей истории, и мы подтверждаем, что это правда. Да, да, когда, несмотря на все свое красноречие, он был уже на волосок от гибели, ему явился образ отца. То есть образ Иакова? Да, конечно, Иакова. Но это не был образ с замкнуто-личными чертами, и увидел его Иосиф не в том или ином месте пространства. Нет, он увидел его в уме и умом: это был мысленный, символический образ, образ отца в самом широком и общем смысле — черты Иакова смешались в нем с отцовскими чертами Потифара, но было в нем вместе с тем сходство и со скромно умершим Монт-кау, и были еще какие-то, куда более величественные, выходящие за пределы всех этих сходств черты. Отцовскими глазами, карими и блестящими, с нежными жилками у нижних век, глядело это лицо на Иосифа пристально и тревожно.
Это спасло его; или, вернее (будем судить разумно и припишем эту заслугу не какому-то видению, а ему самому) — или, вернее, он спас себя, поскольку этот образ был рожден его духом. Он вырвался из положения, определить которое можно только как далеко зашедшее и весьма близкое к поражению, — вырвался к нестерпимому горю женщины, прибавим мы, справедливо распределяя свое сочувствие, — и это его счастье, что его телесная ловкость не уступала его красноречию, ибо поэтому он ухитрился в два счета выскользнуть из своего платья («плаща», «одежды»), за которое его схватили в любовном отчаянье, и, хоть это не очень-то подобало управляющему, убежать прочь — в северную палату, в столовую для гостей и дальше — в переднюю.
За его спиной бесновалось любовное разочарование, наполовину уже счастливое — «Ме'эни нахтеф!» — но нестерпимо обманутое. Она выделывала с оставшейся у нее в руках, еще теплой одеждой что-то ужасное: покрывала поцелуями, увлажняла слезами, разрывала зубами, топтала ногами это ненавистное, это милое платье, обходясь с ним почти так же, как обошлись некогда братья с нарядом сына в долине Дофана.
— Любимый! — кричала она. — Куда ты? Не уходи! О сладостный мальчик! О мерзкий раб! Будь проклят! Умри! Измена! Насилье! Держите беспутника! Держите убийцу чести! На помощь! На помощь госпоже! На меня напало чудовище!
Ну, вот. Ее мысли — если можно говорить о мыслях, когда налицо только горячка гнева и слез, — ее мысли свернули на то обвиненье, каким она не раз угрожала Иосифу, когда, делаясь страшной в своей похоти, заносила над ним, как львица, смертоносную лапу — убийственное обвинение в том, что он оскорбил госпожу чудовищным посягательством. Дикое это воспоминанье всколыхнулось в покинутой, она бросилась на него, она выкрикнула его изо всех сил, надеясь, как это бывает с людьми, усилием голоса сделать неправду правдой, — и мы, справедливости ради, порадуемся, что боль обиженной женщины нашла себе такой выход, получила пусть ложное, но столь же страшное, как и сама эта боль, выраженье, способное ужаснуть, способное заразить сочувственной жаждой мести кого угодно. Крики ее звучали пронзительно.
В передней были уже люди. Солнце садилось, и большая часть челяди Петепра уже вернулась с праздника на усадьбу и в дом. Поэтому хорошо еще, что, прежде чем он достиг вестибюля, у беглеца нашлось место и время собраться с мыслями. Слуги стояли, прислушиваясь, скованные страхом, ибо крики госпожи доносились наружу, и, хотя молодой управляющий вышел из гостиной неторопливо и прошел сквозь их толпу спокойной походкой, они все равно не могли не усмотреть какой-то связи между ущербом в его одежде и криками в покое хозяйки. Сначала Иосиф хотел удалиться направо, в свою комнату, в Особый Покой Доверия, чтобы привести себя там в порядок; но так как на дороге стояли слуги, а кроме того, в нем победила потребность уйти из дома на свежий воздух, он пересек переднюю и через открытую бронзовую дверь вышел во двор, где царило оживление съезда, ибо как раз в это время к гарему прибывали носилки тараторок-наложниц, которые, под надзором писцов Дома Замкнутых и евнухов-нубийцев, также выезжали поглядеть на зрелища праздника и теперь возвращались в свою почетную клетку.
Куда он собирался уйти, так дешево отделавшись? На улицу, через те ворота, в какие он однажды вошел. А куда потом? Этого он сам не знал и был рад, что впереди у него еще двор, где можно было идти так, словно ты куда-то идешь. Он почувствовал, что его тянут за платье — это был сморчок Боголюб, который подавленно верещал: «Погибла нива! Бык ее сжег! Пепел! Пепел! Ах, Озарсиф!» Это было примерно на полпути от главного зданья к воротам наружной стены. Малыш вцепился в одежду Иосифа, и тот оглянулся. Его догнал голос женщины, госпожи, которая, белея, стояла на возвышенье ступеней перед дверью дома, окруженная слугами, стекавшимися вслед за ней из передней. Она простирала руку в его сторону, и продолженьем ее руки за ним бежали люди, тоже протягивая руки к нему. Они схватили его и привели его назад, в гущу сбежавшейся к дому дворни — ремесленников, привратников, людей конюшен, сада и кухни, столовой прислуги в серебристых набедренниках. Плачущего карлика, который вцепился в его платье, он тащил за собой.
И перед челядью почечного своего супруга, столпившейся во дворе за нею и перед ней, жена Потифара держала ту известную речь, которая всегда вызывала неодобрение человечества и которую мы также, при самом добром своем отношенье к Мут-эм-энет и ее преданью, не можем не осудить — не за неправду ее утверждений, которая могла все-таки сойти за облачение правды, а за демагогию, которой она не побрезгала, чтобы распалить своих слушателей.
— Египтяне — кричала она. — Дети Кеме! Сыновья Потока и Черной Земли!
Что это значило? Перед ней стояли обыкновенные люди, к тому же почти все немного навеселе. Их чистокровность детей Хапи, поскольку она вообще существовала, ибо среди них находились и мавры из Куша, и люди с халдейскими именами, была природным, не зависящим от них качеством, которое, кстати сказать, нисколько не помогало им, если они бывали нерадивы на службе: тогда спины им полосовали, совершенно не глядя на преимущество их происхождения. А теперь вдруг к этому преимуществу, остававшемуся обычно в тени и не имевшему ни для кого из них никакой практической ценности, подчеркнуто и льстиво взывали, используя их честолюбие, их египетскую гордость против того, кого нужно было уничтожить любой ценой. Призыв этот показался им странным, но он не преминул оказать своего действия, тем более что пары ячменного пива повысили их впечатлительность.
— Братья египтяне! (Так вдруг и братья! Это проняло их, они блаженствовали.) Видите ли вы меня, вашу госпожу и мать, первую и праведную жену Петепра? Вы видите меня на пороге дома, и мы с вами хорошо знаем друг друга, не так ли, вы — меня, а я — вас?
«Мы» и «друг друга»! Это ласкало слух, у них был сегодня, право, хороший день.
— Но вы знаете и этого юношу-ибрийца, который ходит полуголым в такой знаменательный вечер, потому что верхнее его платье вот оно, у меня в руках… Вы узнаете его, поставленного над вами, уроженцами этой земли, назначенного управлять домом великого мужа стран? Глядите, с горемычной чужбины он явился в Египет, явился в прекрасный сад Усира, к престолу Ра, к горизонту доброго духа. Этого чужеземца привели к нам в дом («к нам»! опять, подумать только!), — чтобы он посмеялся над нами и покрыл нас позором. Ибо это ужасное дело совершено: я сидела одна в своем покое, одна в доме, оправданная перед Амуном своим нездоровьем, и одиноко стерегла пустой дом. И вот этот негодяй, этот ибрийский злодей воспользовался моим одиночеством, чтобы поступить со мной так, как ему хотелось, и опозорить меня: этот раб хотел спать с госпожой, — закричала она визгливо, — насильственно спать! Но я стала громко кричать, когда он захотел это сделать, чтобы удовлетворить рабское свое желанье, — я спрашиваю вас, братья египтяне, слыхали ли вы, как я кричала изо всех сил, чтобы доказать, как того требует закон, что я сопротивлялась и в ужасе защищалась? Вы это слышали! Но так как и он, блудодей, это слышал, преступная отвага его иссякла, и он вырвался из своего плаща, который я держу в руках как улику и за который я хотела его удержать, чтобы вы схватили его, и, не совершив злодеянья, бежал от меня, так что я, благодаря своему крику, стою перед вами чистой и непорочной. А он, поставленный над вами и надо всем этим домом, он стоит сейчас вон там, как злодей, который поплатится за свою вику и предстанет перед судом, как только вернется мой господин и супруг. Наденьте ему колодки на руки!
Такова была не только неправдивая, но, увы, и подстрекательская речь Мут-эм-энет. Потифарова челядь стояла в смущенье и замешательстве, одурев уже и от дарового храмового пива, а от услышанного и вовсе. Разве все они не слыхали, не знали, что она бегает за красивым управляющим, а он ей не поддается? А тут вдруг оказывается, что он посягнул на госпожу, захотел овладеть ею силой? Голова у них шла кругом — и от пива, и от этой истории, ибо она была несуразна, а все они от души любили юного управляющего. Кричать она, конечно, кричала; все они это слышали, и все они знали закон, по которому женщина считается невиновной, если она во время нападенья на ее честь громко кричала. К тому же в руках у нее была верхняя одежда управляющего, по виду которой можно было заключить, что она действительно осталась ей в залог, когда он вырвался; но сам он стоял с опущенной головой и молчал.
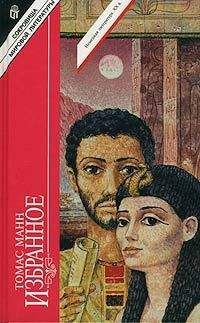



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
