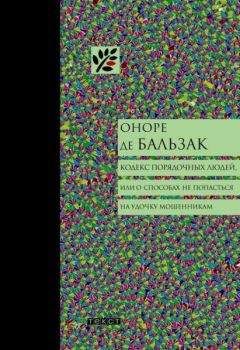И когда Ева сказала священнику: «Сударь, вот моя мать!», когда аббат взглянул на это лицо, изможденное, как у престарелой, седовласой монахини, но умиротворенное тем выражением кротости и глубокого смирения, что свойственно религиозным женщинам, которые предают себя, как говорится, на волю господню, ему вдруг открылась вся жизнь этих двух созданий! Священник не чувствовал более жалости к Люсьену, их палачу. Он содрогнулся, вообразив, какие муки перенесли его жертвы.
— Матушка, — сказала Ева, утирая глаза, — наш бедный Люсьен находится неподалеку от нас, в Марсаке.
— А почему не тут? — спросила г-жа Шардон.
Аббат Маррон изложил все, что ему рассказал Люсьен и о своих лишениях в пути, и о несчастьях последних его дней в Париже. Он обрисовал терзания поэта, которые тот испытывал, когда до него дошла весть о пагубных последствиях его легкомысленного поступка, и то, как он теперь волнуется, не зная, какой прием ожидает его в Ангулеме.
— Неужто он и в нас потерял веру? — сказала г-жа Шардон.
— Несчастный прошел весь путь пешком, испытывая крайние лишения; он воротился в намерении вести самую скромную жизнь... искупить свою вину.
— Сударь, — сказала сестра, — несмотря на то, что он причинил нам столько зла, мне дорог брат, как дороги останки любимого существа; и, однако ж, я люблю его крепче, нежели любят своих братьев многие сестры. Он довел нас до нищеты, но пускай возвращается, мы разделим с ним последний кусок хлеба, — словом, все то, что он нам оставил. Ах, если бы он не покинул нас, не погибли бы самые заветные наши сокровища!
— Как! — вскричала г-жа Шардон. — Он воротился в карете женщины, похитившей его у нас? Уехать вместе с госпожой де Баржетон в ее коляске, а воротиться на запятках ее экипажа!
— Чем могу я быть вам полезен в вашем тяжелом положении? — спросил добрый кюре, желая сказать что-нибудь на прощанье.
— Ах, сударь, — отвечала г-жа Шардон, — безденежье, говорят, болезнь не смертельная, но излечить от нее может только один врач: сам больной.
— Ежели вы имеете некоторое влияние на моего свекра, убедите его помочь сыну, и вы спасете всю нашу семью, — сказала г-жа Сешар.
— Он не доверяет вам и, как мне показалось, до крайности вооружен против вашего мужа, — сказал старик, который из недомолвок винокура понял, что дела Сешара — осиное гнездо, куда соваться не следует.
Выполнив поручение, священник пошел обедать к внучатому племяннику Постэлю, и тот рассеял последние остатки благожелательности старого дядюшки, выступив, как и весь Ангулем, в защиту старика Сешара.
— Против мотовства еще можно найти средство, — сказал в заключение мелочный Постэль, — но, связавшись с любителями делать опыты, разоришься в прах.
Любопытство марсакского кюре было вполне удовлетворено, а на нем только и зиждется участие к ближнему во французской провинции. Вечером он рассказал поэту о том, что происходит у Сешаров, представив свое путешествие как миссию, принятую им на себя из чистейшего милосердия.
— Вы ввели вашу сестру и зятя в долги, которые исчисляются не то в десять, не то в двенадцать тысяч франков, — сказал он в заключение. — Может быть, в Париже это и безделица, но никто в Ангулеме не ссудит их такими деньгами. В Ангулеме нет богачей. Когда вы мне говорили о ваших векселях, я полагал, что речь идет о сумме более скромной.
Поблагодарив священника за участие, поэт сказал ему:
— Слово прощения, которое вы принесли мне, для меня истинное сокровище.
На другой день Люсьен, едва рассвело, вышел из Марсака в Ангулем; он вошел в город около девяти часов утра, опираясь на палку; на нем был коротенький сюртучок, изрядно потрепанный в дороге, и черные панталоны, побелевшие от пыли. Стоптанные сапоги достаточно красноречиво говорили о его принадлежности к жалкому сословию пешеходов. И, конечно, он не обольщался насчет того, какое впечатление произведет на его земляков резкая противоположность между его отъездом и возвращением в родной город. Но сердце сильно колотилось у бедного поэта, мучимого упреками совести, которые были вызваны рассказом старого священника, и в ту минуту он принял с покорностью это наказание, решив мужественно выдержать любопытные взгляды встречных. Он говорил сам себе: «Я держусь геройски!» Все эти поэтические натуры начинают с того, что обманывают самих себя. Покамест он шел по Умо, в душе у него происходила борьба между чувством стыда за настоящее и поэзией воспоминаний. Биение сердца участилось, когда он проходил мимо дверей Постэля; но, к счастью для него, в лавке была одна Леони Маррон с ребенком. К своему удовольствию, он увидел (так живо еще говорило в нем тщеславие), что имя его отца снято с вывески! После женитьбы Постэль выкрасил заново свою лавочку и над дверьми сделал краткую, на парижский манер, надпись: Аптека. Подымаясь по откосу от ворот Пале, Люсьен ощутил влияние родного воздуха, он не чувствовал более гнета несчастья и в упоении говорил про себя: «Я опять их увижу!» Он дошел до площади Мюрье, не встретив ни души на пути: счастье, о каком он и не мечтал, он, который некогда ходил победителем в своем городе! Марион и Кольб, сторожившие у дверей, кинулись вверх по лестнице, крича: «Пришел!» Люсьен опять увидел старую мастерскую и старый двор; всходя на лестницу, он встретил мать и сестру, они обнялись, забыв на минуту все свои горести. Почти во всех семьях сживаются с несчастьем, точно с жестким ложем, и надежда примиряет с его суровостью. Если Люсьен являл собою образ отчаяния, он являл также и образ поэзии отчаяния: солнце больших дорог позолотило его кожу; глубокая печаль, запечатленная в его чертах, отбросила свою тень на чело поэта. Такая перемена говорила о стольких страданиях, что при виде этого лица, на котором несчастье оставило свой след, могло возникнуть лишь чувство жалости. Воображение, витавшее вне лона семьи, ныне встретилось с печальной действительностью. С улыбкой радости на устах Ева глядела мученицей. Горе сообщает одухотворенность красоте молодой женщины. Значительность этого, некогда детски-наивного, лица, каким его помнил Люсьен, чересчур красноречиво говорила ему о многом и не могла не произвести на него гнетущего впечатления. Вот почему за первым порывом чувств, столь живым и естественным, и он, и его близкие почувствовали неловкость: каждый боялся заговорить. Однако ж Люсьен невольно искал взглядом того, кто отсутствовал при этой встрече. И этот откровенный взгляд вызвал слезы у Евы, а вслед за ней зарыдал и Люсьен. Что касается до г-жи Шардон, она была бледна и внешне бесстрастна. Ева встала, сошла вниз, не желая упрекнуть брата жестоким словом, и, обратившись к Марион, сказала:
— Голубушка, Люсьен так любит землянику, надобно угостить его!..
— Я и то подумала, что вы пожелаете угостить господина Люсьена. Ну, уж будьте покойны, попотчую его завтраком, а вдобавок такой обед сочиню, что пальчики оближешь!
— Люсьен! — сказала г-жа Шардон сыну. — Тебе многое надобно искупить. Уезжая в Париж, ты думал стать гордостью семьи, а довел ее до нищеты. Ты почти разбил орудие, которым твой брат мечтал добыть богатство для своего семейства. И если бы ты разбил только это... — вымолвила мать. Наступила тягостная пауза, и молчание Люсьена показало, что он признал правоту материнского укора. — Начни трудовую жизнь, — продолжала тихим голосом г-жа Шардон. — Я не виню тебя в том, что ты пытался восстановить мой благородный род; но для такой попытки требуется раньше всего состояние и чувство собственного достоинства: у тебя нет ни того, ни другого. Мы верили в тебя, — ты разбил эту веру, вселил в нас недоверие к тебе. Ты нарушил покой трудолюбивой и скромной семьи, жизненный путь которой был нелегок... Первые проступки простительны только в первый раз. Не повторяй их больше. Мы находимся в трудных обстоятельствах, будь благоразумен, слушайся сестру; несчастье великий учитель, и уроки его жестоки. Ева вкусила их плоды: она умудрена жизнью, она добрая мать, она несет на себе все тяготы хозяйства из привязанности к нашему дорогому Давиду, короче, она, по твоей вине, — мое единственное утешение.
— Вы могли бы отнестись ко мне и более сурово, — сказал Люсьен, обнимая мать. — Принимаю ваше прощение, вторично мне не придется его просить.
Вернулась Ева и по смиренной позе брата поняла, что г-жа Шардон побеседовала с ним. Добрая улыбка показалась на ее устах, и Люсьен отвечал на нее подавленными рыданиями. Личное присутствие обладает чарующим свойством, оно смягчает и самые враждебные чувства любовников, и раздоры в семье, как бы сильны ни были причины взаимного неудовольствия. Может быть, любовь прокладывает в сердце тропы, на которые так заманчиво возвращаться? Не объясняется ли это явление магнетизмом? А может быть, разум подсказывает, что надобно или расстаться навсегда, или простить безусловно? И будь то голос рассудка, какая-нибудь физическая причина или побуждение души, но всякий из нас, конечно, испытал, что взгляды, движения, поступки любимого существа пробуждают в сердцах, даже наиболее оскорбленных, огорченных или униженных, былую нежность. Если разум и не склонен к забвению, если личные интересы еще страдают, сердце, несмотря ни на что, опять идет в рабство. Вот по какой причине бедная Ева, выслушивая вплоть до самого завтрака исповедь брата, не могла, глядя на него, скрыть выражение своих глаз, и голос выдавал ее, стоило заговорить сердцу. Поняв стихию парижской литературной жизни, она поняла, почему Люсьен не устоял в борьбе. Радость ласкать младенца сестры, видеть его ребяческие выходки, чувствовать себя счастливым, оказавшись на родине, в кругу семьи, и тут же ощутить щемящую тоску при мысли, что Давид вынужден скрываться, горечь слов, срывавшихся с уст поэта, его растроганность, когда Марион подала к столу землянику, этот умилительный знак внимания сестры, которая среди житейских треволнений не забыла о любимом лакомстве Люсьена, — все, вплоть до забот об устройстве бедного брата, превращало этот день в праздник. То был как бы краткий отдых в несчастье. Сешар-отец не преминул вставить словцо наперекор радости женщин: