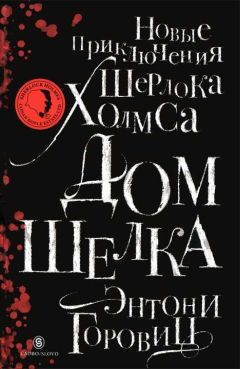— Хочешь поехать со мной, Ганно, — спрашивал он в другой раз. — Сегодня спуск нашего нового парохода. Мне надо окрестить его… Хочешь?
И Ганно делал вид, что хочет. Он стоял возле отца, слушал его речь, смотрел, как он разбивал бутылку шампанского о бушприт, и безучастно следил за судном, которое скользило по смазанным зеленым мылом стапелям в воду, высоко вспенивавшуюся под его килем.
Дважды в год, в вербное воскресенье — день конфирмации и на Новый год, сенатор Будденброк в экипаже отправлялся с визитами по знакомым; и так как супруга его предпочитала в таких случаях оставаться дома под предлогом расстройства нервов или мигрени, то он звал с собой Ганно. Ганно и тут выказывал покорность. Он усаживался в карету рядом с отцом и потом в гостиных молча наблюдал за ним. Как легко, тактично и в то же время как до мельчайших оттенков по-разному умел отец держаться в обществе.
Ганно, например, заметил, что когда комендант округа, подполковник г-н фон Ринлинген, при прощании заверил сенатора, что весьма польщен оказанной ему честью, тот с деланным испугом дотронулся до его плеча; в другом месте он спокойно выслушал почти те же слова, а в третьем постарался отклонить их иронически подчеркнутой любезной фразой. И все это с полной уверенностью, сквозившей в словах и жестах, кроме всего прочего явно рассчитанных на одобрительное удивление сына и отчасти являющихся педагогическим приемом.
Но маленький Иоганн видел больше, чем ему следовало видеть; его робкие золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках умели наблюдать слишком зорко. Он видел не только уверенную светскость в обхождении отца, так безошибочно действовавшую на людей, но — с мучительной для него самого проницательностью — и то, каким страшным трудом эта светскость ему давалась. Сенатор после каждого визита становился еще бледнее, еще скупее на слова. Закрыв глаза с покрасневшими веками, он молча сидел в экипаже, и сердце Ганно наполнялось ужасом, когда на пороге следующего дома маска снова появлялась на этом лице и движения обессилевшего тела приобретали упругую легкость. Манера отца входить в гостиную, непринужденность его беседы, любезная общительность — все это представлялось маленькому Иоганну не наивной, естественной, полубессознательной защитой известных практических интересов, совпадающих с интересами друзей и противоречащих интересам конкурентов, а своего рода самоцелью, достижимой лишь путем искусственного и сознательного напряжения всех душевных сил, некой невероятно изнурительной виртуозностью, поддерживающей необходимую выдержку и такт. И при одной мысли, что и от него ждут со временем таких же выступлений в обществе, что и ему придется говорить и действовать под гнетом всех этих чужих взглядов, Ганно невольно закрывал глаза, содрогаясь от страха и отвращения.
Увы, не такого воздействия на сына ждал Томас Будденброк от своего личного примера! Воспитать в нем стойкость, здоровый эгоизм, житейскую хватку — вот о чем мечтал он денно и нощно.
— Ты, видно, любитель хорошо пожить, дружок, — говаривал он, когда Ганно просил вторую порцию десерта или полчашки кофе после обеда. — Значит, тебе надо стать дельным коммерсантом и зарабатывать много денег! Хочешь ты этого?
И маленький Иоганн отвечал «да».
Случалось, что, когда к обеду у сенатора собирались родные и тетя Антония или дядя Христиан, по старой привычке, начинали подтрунивать над бедной тетей Клотильдой и, обращаясь к ней, добродушно и смиренно растягивали слова на ее манер, Ганно под воздействием праздничного крепкого вина тоже впадал в этот тон и, в свою очередь, начинал поддразнивать тетю Клотильду.
И тут Томас Будденброк от души смеялся громким, счастливым, почти благодарным смехом, как человек, только что испытавший радостное удовлетворение. Он даже присоединялся к сыну и тоже начинал поддразнивать бедную родственницу, хотя сам давно отказался от этого тона в общении с ней: слишком уж было просто и безопасно утверждать свое превосходство над ограниченной, смиренной, тощей и всегда голодной Клотильдой. Томасу эти насмешки, несмотря на их неизменно добродушный тон, все-таки казались низостью. Ему претила, донельзя претила мысль, ежедневно по множеству поводов возникавшая в нем, но тем не менее органически чуждая его скрупулезной натуре, никак не мирившейся с тем, что можно понимать неблаговидность ситуации, прозревать ее и все-таки без стыда оборачивать эту ситуацию в свою пользу: «Но без стыда оборачивать в свою пользу неблаговидную ситуацию — это и есть жизнеспособность», — говорил он себе.
Ах, как он радовался, какие надежды окрыляли его всякий раз, когда маленький Иоганн выказывал хоть тень этой жизнеспособности!
За последние годы Будденброки отвыкли от дальних летних поездок, некогда считавшихся обязательными; и даже когда прошедшей весной жена сенатора изъявила желание съездить в Амстердам и после долгого перерыва сыграть несколько скрипичных дуэтов со своим стариком отцом, муж сухо и нехотя дал ей свое согласие. Зато у них вошло в обычай, чтобы Герда, маленький Иоганн и Ида Юнгман, в интересах здоровья мальчика, ежегодно проводили время летних каникул в Травемюнде.
Летние каникулы у моря! Кто может понять, что это за счастье! После докучливого однообразия бесчисленных школьных дней — целый месяц беспечального существования, напоенного запахом водорослей и мерным рокотом прибоя!.. Целый месяц! Срок поначалу необозримый, бескрайний! Даже поверить нельзя, что он когда-нибудь кончится, говорить же об этом просто кощунство! Маленький Иоганн никогда не мог понять, как это решаются учителя под конец занятий заявлять что-нибудь вроде: «С этого места мы продолжим после каникул, а затем перейдем к…» «После каникул!» Похоже, что он этому даже радуется, непостижимый человек в камлотовом сюртуке с блестящими пуговицами! «После каникул!» Какая дикая мысль! Разве все, все, что за пределами этого месяца, не скрыто серой, туманной пеленой?
Проснуться в одном из двух швейцарских домиков, соединенных узкой галереей и расположенных в одном ряду с кондитерской и главным корпусом кургауза, — какое это наслаждение! Особенно в первое утро, когда остались позади день — все равно, худой или хороший — выдачи школьных табелей и поездка в заваленном вещами экипаже! Смутное ощущение счастья, разлившееся по всему телу и заставляющее сжиматься сердце, вспугивало Ганно ото сна. Он открывал глаза, блаженным и жадным взором окидывал опрятную маленькую комнату, уставленную мебелью в старофранконском стиле. Секунда-другая сонного, блаженного недоумения — и все становится понятно: он в Травемюнде! На целый, бесконечный месяц в Травемюнде! Он неподвижно лежал на спине в узкой деревянной кровати, застеленной необыкновенно мягкими и тонкими от частой стирки простынями, и только время от времени закрывал и открывал глаза, чувствуя, как его грудь при каждом вдохе наполняется радостью и волненьем.
Сквозь полосатую штору в комнату уже проникает желтоватый утренний свет, но кругом тишина. Ида Юнгман и мама еще спят. Никаких звуков, только равномерный и тихий шорох гравия под граблями садовника да жужжанье мухи, застрявшей между окном и шторою; она часто бьется о стекло, и тень ее зигзагами мечется по полосатой материи. Тишина! Шорох камешков и монотонное жужжанье! Эти идиллические звуки наполняют маленького Иоганна чудным ощущением спокойствия, порядка и уютной укромности так горячо им любимого мирка. Нет, сюда уж, слава богу, не явится ни один из этих камлотовых сюртуков, представляющих на земле грамматику и тройное правило, — ведь жизнь здесь стоит очень недешево.
Приступ радости заставляет его вскочить с постели; он босиком подбегает к окну, поднимает штору, скинув с петли белый блестящий крючок, — распахивает раму и смотрит вслед мухе, пустившейся в полет над дорожками и розовыми кустами курортного парка. Раковина для оркестра в полукруге буковых деревьев, напротив кургауза, пустует. Полянка, справа от которой высится маяк, расстилается под еще затянутым белесой дымкой небом; трава на ней, низкорослая, местами и вовсе вытоптанная, переходит в высокую и жесткую прибрежную поросль, за которой уже начинается песок. Там глаз, хоть и с трудом, различает ряды маленьких деревянных павильонов и плетеных кабинок, смотрящих на море. Вот и оно — мирное, освещенное блеклым утренним солнцем, все в темно-зеленых и синих полосах, то гладких, то вспененных; и между красными буйками, указывающими фарватер судам, пробирается пароход из Копенгагена… и никто-то не спросит тебя, как он называется — «Наяда» или «Фридерико Эвердик». И Ганно Будденброк снова глубоко, блаженно вдыхает донесшийся до него пряный морской воздух и нежным, полным благодарности и молчаливой любви взглядом приветствует море.